Изменение смысла международно-правого признания
Во всемирной истории нередко случалось, что различные народы и царства изолировали себя от остального мира и пытались посредством оборонительных линий защитить себя от его пагубного влияния. Вопрос лишь в том, какое поведение по отношению к другим народам вытекает из такого рода замкнутости и изоляции. Притязание Америки быть новым, не подверженным разложению миром возникло в XIX столетии после того, как в сознании возникла некая глобальная картина Земли. Для остального мира это притязание, пока оно было связано с последовательной изоляцией, представляло собой некое добровольное самоограничение. Глобальная линия, разделяющая мир на две половины, хорошую и дурную, представляет собой не что иное, как линию положительной и отрицательной моральной оценки. В других частях планеты она вызывает стойкое неприятие, пока не приводит к полному разрыву отношений. Во всех иных случаях развивается диалектика изоляции и интервенции, и острота напряжения при этом возрастает с каждым новым шагом исторического развития.
а) Дилемма изоляции и интервенции
Эта дилемма впервые стала очевидной после окончательного преодоления последствий гражданской войны в США 1861-1864 годов и возвращения к Соединенным Штатам издавна присущего им чувства превосходства по отношению к европейским великим державам. В переходный период, датируемый 1890-1939 годами, неразрешимая дилемма проявляется в том сочетании присутствия и неприсутствия, о котором мы уже говорили выше и которое определи-
ло судьбу Женевской лиги. Но с развитием глобального сознания необходимость некоего определенного выбора становится неизбежной и в то же время все более настоятельной и острой, соответствуя тем самым росту пространственных и политических масштабов такого глобального линейного мышления и процессу образования крупных современных индустриально-экономических регионов. Эта чудовищная альтернатива, необходимость выбора между двумя моделями развития, одна из которых ориентируется на несколько вновь формирующихся крупных регионов, а другая отражает глобальное притязание на весь мир между монизмом и плюрализмом, монополией и полиполией, стояла перед Западным полушарием с самого начала так называемой империалистической эры, т. е. с конца XIX—начала XX века. Ни один социолог, историк, юрист или экономист, наблюдавший развитие Соединенных Штатов и подвластного им Западного полушария после 1890 года, не мог пройти мимо этих противоречий развития и их диалектики. После окончания Первой мировой войны, начиная с 1919 года, эта диалектика дала себя знать и в Европе. Огромные массы целых континентов колебались между противоречащими друг другу, взаимоисключающими крайностями, не в силах занять какую-либо определенную позицию. Эти крайности отнюдь не были какими-то сугубо всеобщими антагонистическими противоположностями или полюсами направленных в противоположные стороны тенденций, всего лишь проявлениями тех контрастов и того напряжения, которые характерны для любой интенсивной жизни и являются составной частью всякой действительно большой мировой политики. Эти противоречия порождены нерешенными проблемами пространственного развития, которое ведет к необходимости выбора между переходом к миру, состояш ^ му из ограниченных, признающих друг друга крУ й ных регионов, и превращением войны, noHHMaeN
в соответствии с принципами прежнего международного права, в некую глобальную мировую гражданскую войну.
Еще в ходе Первой мировой войны 1914-1918 годов политика президента В. Вильсона представляла собой колебание между двумя крайностями — самоизоляцией и всемирной интервенцией, завершившееся в конечном счете полной победой интервенционизма. В качестве иллюстрации достаточно процитировать два заявление Вильсона, первое из которых относится к 1914 году, т. е. к самому началу мировой войны, а второе датируется апрелем 1917 года, т. е. периодом вступления в войну Соединенных Штатов. Исходный пункт Вильсона таков: to be neutral in as well as in name} В своей речи, произнесенной 19 августа 1914 года, он торжественно провозгласил себя приверженцем абсолютного, строжайшего, скрупулезного соблюдения нейтралитета, в соответствии с которым следует педантично избегать какой бы то ни было дискриминации любой из воюющих сторон и со строжайшей последовательностью проводить линию самоизоляции и невмешательства. В этот период президент предостерегал своих соотечественников от попыток даже душевного, будь то мысленного или эмоционального, сочувствия какой-либо из сторон, от такого нейтралитета, который был бы лишь внешним и формальным, тогда как душа уже не является нейтральной. «Мы должны быть нейтральными и в мыслях, и в поступках, сдерживать свои порывы и избегать любого действия, которое могло бы быть истолковано как оказание предпочтения какой-либо из воюющих сторон». В ноябре 1916 года под лозунгом «he kept us out of war»2 Вильсон был переизбран на второй президентский срок. Но уже в
Быть нейтральными как фактически, так и формально \онг,1.).
Он уберег нас от войны (англ.). ■
своей речи от 2 апреля 1917 года он во всех отношениях изменил свою точку зрения и публично заявил, что не только конкретный период, но и целая эпоха нейтралитета миновала, и стремление к миру во всем мире и свободе народов оправдывают вступление США в европейскую войну. Лишь в результате этой перемены Вторая мировая война превратилась из европейской войны в старом стиле во всемирную и общечеловеческую войну. О том, что этот поворот or изоляции к интервенции объясняется действием неких объективных сил и тенденций, а не изменением личного мнения и индивидуально-психологическими особенностями склонного к колебаниям Вильсона, свидетельствует любой важный момент американской истории последних десятилетий. В ней постоянно присутствует проблематика самоизоляции и всемирной интервенции. Рассматривавшаяся нами выше история взаимоотношений Соединенных Штатов и Женевской лиги представляет собой частный случай той же самой проблемы. Осуждение войны, предпринятое Вашингтоном в форме пакта Келлога от 27 августа 1928 года, никак не прояснило отношения США к уставу Женевской лиги. Но смысл ее в любом случае состоял в том, чтобы колоссальное по своей важности решение по поводу допустимости мировой войны принималось не Женевской лигой и не господствовавшими в ней великими европейскими державами, Англией и Францией, а Соединенными Штатами. Традиционный тип нейтралитета, в соответствии с уставом Женевской лиги еще не полностью ликвидированный, с переходом к концепции справедливой войны устранялся как международно-правовая категория. Джон Б. Уигтон, теоретик международного права этого времени, максимально просто сформулировал это, следуя типичному для него ходу мысли: прежде нейтралитет был символом мира, теперь же в контексте нового, построенного на основании документов Женевской
лиги и пакта Келлога международного права, он стал символом войны.
В ходе Первой мировой войны 1914-1918 годов дилемма изоляции и интервенции находила свое выражение в заявлениях Вильсона; после 1939 года последовало поразительно точное повторение практически того же самого хода событий, что свидетельствует о том, что в их основании лежит некое глубокое тождество. Уже в речи, произнесенной 5 октября 1937 года в Чикаго, президент Франклин Д. Рузвельт заявил, что от анархии и беззакония, свидетелем которых стал сегодняшний мир, нельзя уйти при помощи одной лишь изоляции и нейтралитета. Но несмотря на это, официальное провозглашение Соединенными Штатами своего нейтралитета (5 сентября 1939 года) формально соответствовало старому понятию нейтралитета с его строжайшей беспристрастностью и равным расположением ко всем воюющим сторонам. В официальной американской декларации о провозглашении используются даже традиционная европейская формула aequalitas ami-citiae, в соответствии с которой нейтралитет основывается на равно дружественном отношении к обеим воюющим сторонам, и такое выражение, как on terms of friendship.1 У нас нет необходимости излагать здесь, каким образом в действительности развивалась эта равно дружественная ко всем сторонам беспристрастность. Для нас важна лишь ее связь с проблемой Западного полушария и со внутренней диалектикой изоляции и интервенции, которая начиная с рубежа веков во все большей и большей степени становится Движущей силой нашей планеты. И в ходе Второй мировой войны Соединенные Штаты также вынуждены были отказаться от вытекающего из принципа самоизоляции и торжественно провозглашенного ими в самом ее начале, в 1939 году, строгого нейтралитета.
В дружественных отношениях (англ.). i4B<:<
Конечным принципиальным выводом и общИм итогом, о котором открыто возвещал выработанный на борту президентской яхты «Потомак» и оглашен, ный 31 марта 1941 года на пресс-конференции в Белом Доме меморандум американского генерального прокурора и министра юстиции Джексона, стала констатация отказа от старой изоляции и старого нейтралитета: «Я не отрицаю, — говорит официальный представитель правительства Соединенных Штатов, — что в XIX веке были выработаны особые правила нейтралитета, основывавшиеся на соответствующей идее нейтралитета, и что эти правила были дополнены различными Гаагскими конвенциями. Однако следовать этим правилам более не представляется возможным. События, произошедшие после начала мировой войны, лишили эти правила их значимости. После согласия Лиги наций с принципом санкций, вводимых против агрессоров, после заключения пакта Келло-га—Бриана и аргентинского договора об объявлении войны вне закона принципы XIX столетия, в соответствии с которыми все воюющие стороны должны рассматриваться с одинаковых позиций, утратили свою силу. Мы вернулись к прежним и более здоровым воззрениям». Ранее (в главе о Виториа) мы уже сказали несколько слов о том, что в идейно-историческом плане кроется за этим возвращением к более старым и более здоровым воззрениям. В контексте наших теоретических размышлений о международном праве нам следует еще лишь указать на проблему международно-правового признания, ключевую проблему всякого основывающегося на сосуществовании самостоятельных величин порядка. В течение последних десятилетий смысл международно-правового признания определенным образом изменился. Эта перемена отражает структурное изменение международно-правового пространственного порядка.
Согласно классическому европейскому межДУ113" родному праву признание какого-либо другого госу-
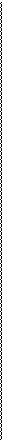
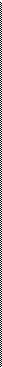 рства и какого-либо другого правительства включает в себя основывающееся на полном равенстве и взаимном паритете признание его в качестве Justus hostis в случае войны. По своей сути любое международно-правовое признание представляет собой выражение того, что признающая сторона считает, что то воздействие, которое территориальное изменение или возникновение нового режима оказывает на существующий или создающийся пространственный порядок, вполне совместимо с этим порядком. Во времена стабильности формируются относительно прочные обычаи и правовые институты; во времена изменения целостной структуры признание de jure переходит в признание de facto и дилемма изоляции и интервенции приобретает глобальный масштаб. Так, в результате международно-правовой практики американских государственных деятелей и юристов понятие recognition^ было расширено до всеобщего, применимого к любой ситуации, к любому событию, к любой войне и к любому территориальному изменению акта одобрения. Об этой доктрине Стимсона мы еще поговорим. Сейчас же мы прежде всего должны рассмотреть некоторые особенно поучительные для нашей темы примеры международно-правового признания, которые позволят нам понять его типовой, модельный характер и во всей остроте постичь дилемму изоляции и интервенции: признание повстанцев в качестве воюющей стороны и признание нового правительства. Оба эти примера особенно важны для вопроса о пространственном порядке, поскольку они наиболее четко показывают, что интервенция неотделима от любого международно-правового сосуществования и в целостной системе международного права обозначает тот момент, когда война превращается в справедливую войну, что на самом деле означает: в ^°^У_гражданскую. Вплоть до обеих мировых войн
рства и какого-либо другого правительства включает в себя основывающееся на полном равенстве и взаимном паритете признание его в качестве Justus hostis в случае войны. По своей сути любое международно-правовое признание представляет собой выражение того, что признающая сторона считает, что то воздействие, которое территориальное изменение или возникновение нового режима оказывает на существующий или создающийся пространственный порядок, вполне совместимо с этим порядком. Во времена стабильности формируются относительно прочные обычаи и правовые институты; во времена изменения целостной структуры признание de jure переходит в признание de facto и дилемма изоляции и интервенции приобретает глобальный масштаб. Так, в результате международно-правовой практики американских государственных деятелей и юристов понятие recognition^ было расширено до всеобщего, применимого к любой ситуации, к любому событию, к любой войне и к любому территориальному изменению акта одобрения. Об этой доктрине Стимсона мы еще поговорим. Сейчас же мы прежде всего должны рассмотреть некоторые особенно поучительные для нашей темы примеры международно-правового признания, которые позволят нам понять его типовой, модельный характер и во всей остроте постичь дилемму изоляции и интервенции: признание повстанцев в качестве воюющей стороны и признание нового правительства. Оба эти примера особенно важны для вопроса о пространственном порядке, поскольку они наиболее четко показывают, что интервенция неотделима от любого международно-правового сосуществования и в целостной системе международного права обозначает тот момент, когда война превращается в справедливую войну, что на самом деле означает: в ^°^У_гражданскую. Вплоть до обеих мировых войн
' Признание (англ.).
представления о войне в Соединенных Штатах могли по сути дела — не считая колониальных войн и борьбы с индейцами — сложиться лишь на основании опыта двух больших гражданских войн: войны за независимость 1775-1779 годов и гражданской войны 1861 — 1864 годов. Во время обеих этих войн, но прежде всего в ходе гражданской войны 1861 — 1864 годов, проблема признания повстанцев и участвующих в гражданской войне сторон оказывалась в центре международно-правового рассмотрения.
Ь) Проблематика, связанная с признанием
повстанцев (рассматриваемая на примере
гражданской войны в США 1861—1864 годов)
В европейском международном праве XVIII— XIX веков признание повстанцев в качестве воюющей стороны развилось в своеобразный правовой институт. Его специфическая проблематика заключалась в том, что понятие л/^жтосударственной войны европейского международного права переносилось на в/уу/я/?шюсударственную борьбу и на гражданскую войну. В силу этого одновременно с проблемой недискриминационной войны возникла и проблема вмешательства одного государства во внутренние дела другого суверенного государства. Правовой ин^ статут признания повстанцев в качестве воюющей стороны возник у Ваттеля из идеи нейтралитета и был тесно связан с идеей невмешательства. Но совершенно очевидно, что признание повстанцев воюющей стороной означает для них чрезвычайно важное и принципиальное повышение их статуса, тогда как для законного правительства оно означает деградацию и мощное постороннее вмешательство в область его компетенции. Это вмешательство состоит именно в кажущемся нейтралитете. То, что как во внутригосударственном, так и в межгосударственном отноше-
нии, для одной стороны, выступает как восстание, государственная измена, уголовно наказуемое деяние и преступление, а для другой — как уголовное преследование, отправление правосудия и полицейские меры, для признающего повстанцев иностранного государства становится теперь bellum justum, понимаемой в соответствии с недискриминирующим понятием межгосударственной войны, а законное правительство борющегося с повстанцами государства вынуждено принять это неблагоприятное для него изменение. Легальность или легитимность justa causa, представляющая собой нечто весьма существенное для того правительства, которому угрожают повстанцы, становится благодаря этому юридически несущественной, как и незаконность преступных повстанцев.
Тем не менее там, где такой правовой институт вступает в силу, законное и признанное в качестве законного правительство суверенного государства вынуждено идти на такое обусловленное международным правом удивительное повышение ранга своих внутригосударственных, незаконных врагов и непосредственно связанную с ним дискредитацию своего собственного права. Внутренняя проблематика такого правового института может быть понята лишь с точки зрения всеобъемлющего международно-правового пространственного порядка. В самом деле, обычно приводимые прецеденты признания повстанцев воюющей стороной представляют собой не что иное, как примеры контроля и вмешательства ведущих держав, которые таким способом превращали войны в формальные в международно-правовом смысле, признавали воюющие стороны в качестве justi hostes и в конечном счете способствовали тем территориальным изменениям, которые казались им допустимыми. Типичным примером такого рода является признание ведущими европейскими державами греческих повстанцев (1821). Оно означало не более чем
к«Рл Шм,
европейский контроль над деградировавшей Оттоманской империей, которая в то время еще не была признана в качестве члена европейского международного порядка и не принадлежала к тесному пространственному порядку Европы, а следовательно в соответствии с европоцентричным международным правом ее территория в определенным смысле была еще свободна. Признаком весьма поверхностного обобщения является понимание этого европоцен-тричного акта, осуществленного европейскими великими державами в отношении неевропейской империи, как прецедента, применяемого к ситуации истинно внутриевропейской гражданской войны. Точно так же и признание итальянских революционеров под предводительством Гарибальди воюющей стороной (1859) было выражением политики великих европейских держав в отношении более слабых европейских государств. Когда же пространственный порядок общеевропейского международного права прекратил свое существование, подобные акты признания лишились своего смысла. По этой причине во время испанской гражданской войны 1936—1939 годов уже ни одна сторона не получила признания в качестве воюющей стороны, а созданный тогда европейскими державами так называемый комитет по невмешательству самим своим названием свидетельствовал о внутреннем нигилизме, свойственном тогдашнему европейскому международному праву.
Практике признания, сложившейся в рамках евро-поцентричного международного права, соответствовала подобная же практика, осуществлявшаяся в пределах Западного полушария. В 1816 году правительство Соединенных Штатов признало южно- и центральноамериканских революционеров, боровшихся против законных испанского и португальского правительств, воющей стороной (Буэнос-Айрес ■ Колумбия, Мексика боролись против Испании, Бра-
| 1Ь |
л

зилия и Артигас против Португалии). Президент Соединенных Штатов Джеймс Монро начиная с 1817 года ежегодно сообщал об этом в своих посланиях, адресованных конгрессу, пока, наконец, в 1822 году южно-американские воюющие страны не были признаны Соединенными Штатами в качестве независимых государств. В огромном по своему значению послании Монро от 2 декабря 1823 года признание южноамериканцев в качестве воюющей стороны было особо подчеркнуто. В этом послании оно было подано как выражение полного нейтралитета Соединенных Штатов, и именно нейтралитета в отношении конфликта между южноамериканцами и испанским правительством. В действительности политическая практика Соединенных Штатов уже тогда исходила из международно-правового притязания, состоявшего в проведении линии Западного полушария и открыто высказанного в послании Монро от 2 декабря 1823 года. Все это неизбежно должно было привести к очень любопытному конфликту, возникшему после начала американской гражданской войны, когда в мае 1861 года великие европейские державы, Англия и Франция, признали восставшие южные штаты в качестве воюющей стороны. Теперь дело касалось уже не внутриевропейского или внут-риамериканского пространственного порядка, а границ тогдашнего европейского международного права и отношений обоих гигантских пространств, по эту и по ту сторону глобальной линии Западного полушария. Поэтому имевшее место в этом случае, т. е. в • 861 году, признание повстанцев воюющей стороной абсолютно уникально. Оно не могло ни стать test са$е1 для европоцентричного международного права, ни быть соотнесенным с истинным test case этого ев-
'Дело, имеющее принципиальное значение для разреше-Ния ряда аналогичных дел; дело-прецедент {англ.).

 ропоцентричного международного права. Но тем са-мым оно само по себе является еще более важным и показательным с точки зрения новой пространственной проблемы, появившейся после того, как Западное полушарие, вновь обретя свое собственное достоинство, выступило против старой Европы.
ропоцентричного международного права. Но тем са-мым оно само по себе является еще более важным и показательным с точки зрения новой пространственной проблемы, появившейся после того, как Западное полушарие, вновь обретя свое собственное достоинство, выступило против старой Европы.
Серьезная конфронтация, возникшая между правительствами Соединенных Штатов Америки и двух великих западноевропейских держав вследствие признания последними штатов южной конфедерации затянулась на целое десятилетие. Она началась с оглашения английской прокламации 13 мая 1861 года и французской прокламации 10 июня 1861 года и сохранялась даже после отмены вышеуказанного признания (в июне 1865 года) вплоть до окончания состоявшихся в 1871 году разбирательств по поводу дела крейсера «Алабама». Позиция Соединенных Штатов была чрезвычайно уязвимой как в теоретическом, так и в практическом отношении. Английское и французское правительства могли ссылаться на общепринятые мнения и на таких авторитетных авторов, как Ваттель и Уитон. Они могли апеллировать также и к прецедентам Греции (1821) и Южной Америки (1822) и даже напомнить о знаменитой декларации о нейтралитете, изданной самим президентом Джорджем Вашингтоном 22 апреля 1793 года во время революционной войны, которую вела якобинская Франция с возглавляемой Англией и Австрией антиреволюционной коалицией. Тогда как правительство Соединенных Штатов Америки в условиях тогдашней политической ситуации не могло выдвинуть свои главный и подлинный аргумент — пространственный подход, базирующийся на идее Западного полушария и доктрине Монро. Ведь именно эти годы, 1861-1864, были временем сильнейшего кризиса доктрины Монро. Ссылка европейских правительст
на греческий прецедент 1821 года была для правительства Союза чрезвычайно оскорбительна. Но правительство Союза в своей аргументации не приняло ее во внимание. В своих нотах и заявлениях оно в принципе и в общем и целом не отрицало права признания повстанцев в качестве воюющей стороны; оно лишь упрекало своих партнеров в поспешном, не вызванном какой-либо действительной необходимостью и осуществленном без предварительной оценки последствий и без переговоров с законным правительством признании. Кроме того, Соединенные Штаты усматривали некорректный и недружественный характер поведения Англии и Франции даже в том, что две эти державы действовали в этом вопросе сообща. Американское правительство вновь и вновь подчеркивало нерасторжимое единство и неделимость Соединенных Штатов и тем самым фактически утверждало, что любое признание каким-либо государством повстанцев, действующих в другом государстве, представляет собой сложнейшую проблему и, более того, что по сути дела такое признание с международно-правовой точки зрения невозможно.
Особенно показательным в этом отношении является письмо от 21 мая 1861 года, адресованное американским послом в Лондоне Чарльзом Фрэнсисом Адамсом, в Вашингтон, государственному секретарю США Сьюарду. Адаме обращает его внимание на речь английского лорда-канцлера, заявившего, что после признания южных штатов воюющей стороной война продолжается уже как justum bellum. Поэтому, когда американский посол выступил с протестом, лорд-канцлер возразил ему, что тем самым он признал лишь сам факт войны, а о justum bellum говорилось лишь в некоем техническом смысле, чего при сложившихся обстоятельствах, как представляется, еДва ли возможно было избежать и что означает лишь
то, что для обеих сторон и без какой-либо оценки справедливости эта война представляет собой войн6 в международно-правовом смысле и потому подчин на правилам современного, цивилизованного веде" ния войны. Никакого другого смысла, по словам лорда-канцлера, прокламация королевы не содержа ла.1 В письме от 21 июня 1861 года, адресованном
1 Это место является достаточно важным, чтобы не процитировать его в оригинале «Under such circumstances it seemed scarcely possible to avoid speaking of this in the technical sense as justum bellum, that is, a war of two sides, without in any way implying an opinion of its justice, as well as to withhold an endeavour, so far as possible, to bring the management of it within the rules of modern civilized warfare. This was all that was contemplated by the Queen's proclamation. It was designed to show the purport of existing laws, and to explain to British subject their liabilities in case they should engage in the war. And however strongly the people of the United States might feel against their enemies, it was hardly to be supposed that in practice they would now vary from their uniformly humane policy of war» [При таких обстоятельствах едва ли представлялось возможным избежать разговора об этом в техническом смысле как о justum bellum, то есть о войне, ведущейся двумя сторонами, причем в данном случае речь никоим образом не идет о выражении какого бы то ни было мнения по поводу ее справедливости, а лишь означает, что должны быть приложены усилия для того, чтобы война, насколько это возможно, велась по правилам ведения современной цивилизованной войны. Это все, что подразумевается в прокламации королевы. Ее цель состояла в том, чтобы продемонстрировать смысл существующих законов и объяснить британским подданным их обязанности в случае, если они будут вовлечены в военные действия. И как бы решительно ни был настроен народ Соединенных Штатов против своих врагов, трудно было бы предположить, что на практике он будет отступать от общечеловеческих принципов ведения воины]. В этом последнем замечании лорда-канцлера УпУс^ае^ из виду связь между справедливой войной и гражданской в ной (Brum. Fontes Juris Gentium. Ser. В. Sect. 1. Т. 1- "ars S. 106).
лорДУ Лайонсу, английскому послу в Вашингтоне, британский министр иностранных дел лорд Рассел еше раз возвращается к этому моменту и делает важное различение, целиком и полностью находившееся в русле классической традиции учения о bellum justum, в соответствии с которой вопрос о justa causa сознательно исключался. Английский министр иностранных дел утверждает, что в своей речи в Палате общин он ссылался на пример греческих повстанцев лишь для того, чтобы воспользоваться здравой политической максимой Каннинга, в соответствии с которой вопрос о состоянии войны — это не вопрос принципов, а исключительно вопрос факта; лишь количественные показатели и сила стороны, борющейся с правительством, а отнюдь не правота ее дела (not the goodness of their cause) дают ей право на обладание характером воюющей стороны и на соответствующее к себе отношение.'
Такие формулировки показывают, насколько сильным было влияние традиционного, классического понятия межгосударственной войны и на английских юристов. Когда они вновь и вновь твердят о своем
1 «I had quoted in the House of Commons the case of the Turks and Greeks in order to avail myself of the sound maxim of policy enunciated by Mr. Canning, that the question of belligerent rights is one, not of principle, but of fact; that the size and strength of the party contending against a Government, and not the goodness of their cause, entitle them to the character and treatment of belligerents» [Я ссылался в Палате общин на гре ко -турецкий прецедент для того, чтобы воспользоваться здравой политической максимой, сформулированной мистером Каннингом, которая гласит, что вопрос о правах воюющих сторон — это не вопрос принципа, а вопрос факта; что количественные показатели и сила стороны, борющейся с правительством, а не правота ее дела, дают ей право на обладание характером воюющей стороны и на соответствующее к себе отношение] (Bruns Fontes Juris Gentium. Ser. В. Sect. 1. Т. 1. Pars. 2. S. 109).
нейтралитете по отношению к обеим сторонам, участвующим в гражданской войне, то в действительности они имеют в виду лишь применение недискриминационного понятия межгосударственной войны к внутригосударственной гражданской войне. Но именно в этом и заключается глубочайшая проблема, и, таким образом, сильнейшее возмущение американского правительства вполне объяснимо. Как в практическом, так и в моральном и в юридическом отношении признание повстанцев никак не может считаться сугубо фактической и чисто декларативной констатацией. Любое признание со стороны какой-либо великой державы инсургентов, действующих в другом государстве, самым непосредственным и эффективным образом способствует повышению не только морального, юридического, пропагандистского, но и военного потенциала этих инсургентов, государственных изменников и саботажников. В силу этого факта все утверждения о чисто фактическом и декларативном характере признания просто не соответствуют действительности. Когда абстрагируются от понятия justa causa и признают, что повстанцы ведут bellum justum, то именно в силу этого абстрагирования от всех правовых вопросов законному правительству наносится тяжелый ущерб и оно терпит жестокую несправедливость. На самом деле американское правительство, используя свою аргументацию, атаковало сам правовой институт признания повстанцев в качестве воюющей стороны не только потому, что признание внутригосударственных боевых действий в качестве войны несовместимо с целостностью и неделимостью государственного суверенитета, но и потому, что правовое уравнивание законного правительства с его внутригосударственными незаконными врагами ни в коей мере не является выражением полного нейтралитета, а содержит в себе оценку определенного внутригосударственного процесса, отличную от оценки со-
ответствуюшего компетентного в данном вопросе правительства, и потому всегда означает чреватое значительными последствиями вмешательство {интервенцию).
С этой точки зрения особого упоминания заслуживает инструкция, направленная государственным секретарем Сьюардом Чарльзу Фрэнсису Адамсу 19 июня 1861 года. В ней говорится, что американское правительство, обоснованно принимая во внимание суверенитет Соединенных Штатов, не может позволить себе пускаться в дебаты по поводу английской позиции; Соединенные Штаты все еще являются единственным и исключительным сувереном на тех территориях, которые были законно приобретены ими и которыми они уже в течение долгого времени обладают; Соединенные Штаты являются дружественной страной по отношению к Великобритании, и вследствие этого Великобритания не должна иметь никаких контактов ни с одной партией или группой (section) внутри США, причем не имеет значения, лояльны эти партии или группы Соединенным Штатам или нет; Великобритания не имеет никакого права ни каким бы то ни было образом квалифицировать (qualify) суверенитет Соединенных Штатов, ни признавать за какой-либо партией, штатом или группой тех прав, интересов или властных полномочий, которые вступали бы в противоречие с нерушимым суверенитетом Федерального Союза. Имеющий место в настоящее время вооруженный мятеж ни в коем случае не может рассматриваться как состояние войны, которое наносило бы ущерб суверенитету правительства, служило бы основанием для признания существования воюющих сторон и давало бы иностранным государствам право на осуществление вмешательства или на соблюдение нейтралитета в отношении этих сторон. К этим инструкциям американский государственный секретарь присовокупляет бедующий, чрезвычайно важный для наших дальнейших рассуждений тезис: «Любой другой принцип
должен был бы превратить правительство в игрушку случая и каприза и в конечном счете ввергнуть все человеческое общество в состояние непрерывной войны»}
' «This government could not, concistently with a just regard for the sovereignty of the United States, permit itself to debate these novel and extraordinary positions with the government of her Britannic Majesty; much less can we consent that that government shall announce to us a decision derogating from that sovereignty, at which it has arrived without previously conferring with us upon the question. The United States are still solely and exclusively sovereign within the territories they have lawfully acquired and long possessed, as they have always been. They are at peace with all the world, as, with unimportant exceptions, they have always been. They are living under the obligations of the law of nations, and of treaties with Grest Britain, just the same now as heretofore; they are, of course, the friend of the Great Britain, and they insist that Great Britain shall remain their friend now just as she has hitherto been. Great Britain, by virtue of these relations, is a stranger to parties and sections in this country, whether they are loyal to the United States or not, and Great Britain can neither rightfully qualify the sovereignty of the United States, nor concede nor recognize any rights or interests of power of any party, State, or section in contravention to the unbroken sovereignty of the Federal Union. What is now seen in this country is occurrence, by no means peculiar, but frequent in all countries, more frequent even in Great Britain than here, of an armed insurrection engaged in attempting to overthrow the regularly constituted and established government. There is, of course, employment of force by the government to suppress the insurrection, as every other government necessary employs force in such cases. But these incidents by no means constitute a state of war impairing the sovereignty of the government, creating belligerent sections, and entitling foreign States to intervene or to act as neutral between them, or in any other way to cast off their lawful obligations to the nations thus for the moment disturbed. Any other principle than this would be to resolve government everywhere into a thing of accident and caprice, and ultimately all human society into a state of perpetual war» [Правительство, последовательно и обоснованно принимая во внимание суверенитет Соединенных Штатов, не
с) Изменение смысла признания иностранного правительства
Американская инструкция 1861 года основывается на той идее, что правовая оценка одним государством внутригосударственных процессов в другом государ-
может позволить себе пускаться в дебаты с правительством Ее Британского Величества по поводу этой новой и экстраординарной английской позиции; еще менее мы можем согласиться с тем, что это правительство будет извещать нас о задевающем этот суверенитет решении, к которому оно пришло, не обсудив его предварительно с нами. Соединенные Штаты, как это всегда и было, все еще являются единственным и исключительным сувереном на тех территориях, которые были законно приобретены ими и которыми они уже в течение долгого времени обладают. Они, как это всегда и было за незначительными исключениями, поддерживают мирные отношения со всем миром. Они соблюдают обязательства, налагаемые на них международным правом и договорами с Великобританией, в настоящий момент точно так же, как и прежде; они, разумеется, являются дружественной страной по отношению к Великобритании и требуют, чтобы и Великобритания и сейчас оставалась такой же дружественной страной, какой она была до сих пор. В силу этих отношений Великобритания не должна иметь никаких контактов ни с одной партией или группой внутри нашей страны, причем не имеет значения, лояльны эти партии или группы Соединенным Штатам или нет, и Великобритания не имеет никакого права ни каким бы то ни было образом квалифицировать суверенитет Соединенных Штатов, ни признавать за какой-либо партией, штатом или группой тех прав, интересов или властных полномочий, которые вступали бы в противоречие с нерушимым суверенитетом Федерального союза. То, что сегодня происходит в нашей стране, есть событие, никоим образом не уникальное и не присущее лишь ей, а время от времени случающееся во всех странах, причем в Великобритании даже более часто, чем здесь, и представляющее собой вооруженный мятеж, выливающийся в попытку ниспровержения законно сформированного и утвержденного правительства. Разумеется, правительство применя-
стве может представлять собой противоречащее международному праву вмешательство одного государства во внутренние дела другого. Для второй разновидности международно-правового признания, которую мы намереваемся рассмотреть, основываясь на международно-правовой практике Западного полушария, это обстоятельство оказывается решающим. Я имею в виду признание того или иного правительства и вопрос о том, когда какое-либо новое правительство нуждается в новом, особом признании. В этом отношении в европейском международном праве был достигнут определенный баланс, и международно-правовое признание государств и правительств оформилось в своеобразный правовой институт, посредством которого, с одной стороны, учитывалась заинтересованность признающего государства в заслуживающем доверия партнере по договору, а с другой — принимался в расчет принцип невмешательства в вопросы внутреннего государственного устройства другого государства. Юристы-международники XIX столетия, такие как Лоример и
ет силу для подавления мятежа, но и любое другое правительство в подобном случае неибежно применило бы силу. Но эти инциденты ни в коем случае не могут рассматриваться как состояние войны, которое наносило бы ущерб суверенитету правительства, служило бы основанием для признания существования воюющих сторон и давало бы иностранным государствам право на осуществление вмешательства или на соблюдение нейтралитета в отношении этих сторон, либо позволяло бы им каким-либо иным образом оказаться от их законных обязательств по отношению к нации, пребывающей в данный момент в столь тревожной ситуации. Любой другой принцип за исключением этого должен был бы превратить правительство в игрушку случая и каприза, и в конечном счете ввергнуть все человеческое общество в состояние непрерывной войны] {Brum. Fontes Juris Gentium, eod. S. 108-109).
Бонфис, разработали несколько (не считая различия между признанием de jure и de facto) различных форм признания: полное, частичное и естественное. Во внутриевропейских делах признание вплоть до конца XIX века все еще рассматривалось как акт принятия в семью наций, как допуск в определенный союз, а потому как некий конститутивный акт. Мы уже упоминали, что Лоример считал такого рода признание основным институтом европейского международного права. Но по мере того, как разрушался конкретный порядок европейского международного права, исчезало и осознание конститутивного характера этого акта. Таким образом, в соответствии с господствующим учением международно-правовое признание как нового государства, так и нового правительства перестало пониматься как конститутивный акт допуска, хотя, с другой стороны, и не превратилось в пустую формальность, а стало рассматриваться как некое «свидетельство о доверии», необходимое в отношениях между государствами и правительствами. Пространственный момент, присущий всякому международно-правовому признанию, в этой конструкции уже не учитывался. В общем и целом европейская практика и в вопросе о признании также отражала попытки, хоть это было весьма и весьма непросто, придерживаться некой средней линии между недопустимым вмешательством и практически невозможным отказом от какой бы то ни было правовой оценки. В противоречивой ситуации, связанной с отношением к Советскому Союзу и советскому правительству 1917—1924 годов, вопрос о признании оказался ключевой проблемой нового мирового порядка. В этот момент стала ясна реальная картина положения в мире: новое огромное пространство суши на востоке Европы, полностью деградировавшее европейское международно-правовое сообщество, колеб-
лющееся между идеей изоляции и интервенции За-падное полушарие и нерешительная и беспомощная Женевская лига.
На американском континенте глубокое противоречие между позицией невмешательства и позицией интервенции именно в вопросе о признании новых правительств проявилось столь непосредственно и с такой остротой, что Западное полушарие и в этом отношении можно сравнить с увеличенным и огрубленным зеркальным отражением Европы XIX столетия с соответственной проблематикой. Согласно так называемой доктрине Тобара, лежавшей в основании соглашения, заключенного 20 декабря 1907 года центрально-американскими республиками Коста-Рикой, Гватемалой, Гондурасом, Никарагуа и Сальвадором, правительство какого-либо другого государства, пришедшее к власти в результате государственного переворота или революции, не должно признаваться до тех пор, пока оно в соответствии с конституцией не будет узаконено посредством свободно избираемого народного представительства. Тем самым демократическая форма проявления законности и легитимности была провозглашена международно-правовым стандартом. Благодаря политической практике президента В. Вильсона этот стандарт демократической законности был возведен в международно-правовой принцип для всей сферы Западного полушария. В соответствии с ним признаются лишь такие правительства, которые законны в том смысле, какой подразумевает демократический конституционный строй. То же, что in concreto означают термины «демократический» и «законный», на практике, само собой разумеется, определяет, интерпретирует и санкционирует само признающее правительство. Очевидно, что такая доктрина и практика признания новых правительств носят интервенционистский характер. Для Западного полушария итогом такой практики стало то, что правительство в Вашингтоне получило возможность эффективно контролировать любую смену
правительства и конституционного строя во всех прочих американских государствах. Пока Соединенные Штаты ограничиваются лишь Западным полушарием, такая практика имеет отношение лишь к этому региону. Но как только США выдвинут притязание на осуществление практики всемирного интервенционизма, она затронет каждое государство Земли.
Но в то же самое время со ссылкой на принцип независимости каждого государства на американском континенте возникла и прямо противоположная по своей направленности конструкция. В силу этого принципа международно-правовое признание уже само по себе объявляется недопустимым средством международно-правового вмешательства и отвергается как таковое. Этой точке зрения присуща диалектическая ценность последовательной антитезы и она сохраняет это значение даже тогда, когда во властно-политическом отношении ее утверждение превращается в бессильный жест. Это — точка зрения, отстаиваемая сложившейся в Мексике так называемой доктриной Эстрады. Эта доктрина в высшей степени последовательна и доходит до того, что любое признание такого рода рассматривает как противоречащее международному праву и даже как оскорбление в адрес якобы признаваемого государства или якобы признаваемого правительства, и на этом основании его отвергает.1 Все двусторонние международно-пра-
' Эта доктрина получила свое название по имени мексиканского министра иностранных дел Хенаро Эстрады; приведем имеющий существенное значение фрагмент его заявления: «После тщательных размышлений мексиканское правительство информировало своих министров и поверенных в делах во всех затронутых новейшим политическим кризисом странах о том, что мексиканское правительство намеревается отказаться от каких бы то ни было заявлений, которые могут быть поняты как декларация о признании, ибо мексиканское правительство придерживается той точки зрения, что такой образ действий носил бы характер оскорбления, которое не только затрагивает суверенитет другого государства, но и
вовые отношения между государствами, правительствами и сторонами гражданских войн превращаются таким образом в отдельные, имеющие место от случая к случаю единичные контакты чисто фактического рода. Все признания de jure и даже все признания de facto упраздняются; сохраняются лишь отношения de facto. Таким образом, в этой доктрине мы имеем дело с полной противоположностью централистско-глоба-листской практике признания.1
Всеобщее понятие международно-правового признания и непризнания разрабатывается в качестве типичного и специфического средства вмешательства.
означает, что иностранные правительства могут выносить суждения по поводу внутренних дел других стран, присваивая себе право на определенного рода критику и вынося решения — в негативном или позитивном смысле — по поводу правовых качеств других правительств». Текст этого заявления опубликован в: American Journal of International Law. 25 Suppl S. 203.
1 С этой точки зрения заслуживает внимания то, что «современная швейцарская политика международного признания демонстрирует подход, чрезвычайно близкий этой мексиканской доктрине». «Отношение швейцарских властей к правительству Франко в определенном отношении заставляло вспомнить о доктрине Эстрады... Можно даже сказать, что это отношение (состоящее в том, чтобы не выражать ни признания de jure, ни признания de facto, а сохранять свободу для принятия решений в зависимости от ситуации) свидетельствует о том, что Федеральный национальный совет сделал единственно правильный вывод из понимания того, что в наше время все вопросы, связанные с международным признанием, подчинены политике, а не юридическим соображениям». Цитата из статьи швейцарского автора Петера Штирлина «Правовое положение непризнанного правительства в международном праве» {Peter Slier/in. Die Rechtstellung der nichtanerkannte Regierung im Volkerrecht. Zurcher Studien zum Internationalen Recht, herausgegeben von H. Fritzsche und D. Schindler. Zurich, 1940. S. 29 und 200). Эти положения обладают тем большей важностью, что Швейцария всегда была образцом международно-правовой корректности.
А следовательно, это признание или непризнание имеет отношение не только к признанию новых государств и правительств в прежнем традиционном смысле европейской международно-правовой практики. Оно представляет собой некое согласие или несогласие, т. е. правовую оценку любого изменения, которое сочли важным, в частности любого территориального изменения. Оно нашло свою первую аутентичную формулировку в так называемой доктрине Стимсона. Юридически эта доктрина исходит из заключенного в 1928 году пакта Келлога. Первые документы, в которых она была зафиксирована, относятся к 1932 году.1 В соответствии с этой доктриной правительство Соединенных Штатов оговаривает за собой право, действительное в любом районе Земли,
1 Доктрина Стимсона сформулирована в одновременно оглашенных нотах от 7 января 1932 года, адресованных Китаю и Японии, и четко изложена в выступлении государственного секретаря США Стимсона перед Советом по международным отношениям 8 августа 1932 года (The Departament of State. Publication No. 357). В нотах от 7 января говорится, что правительство США «не намерено признавать ни одну ситуацию, ни один договор и ни одно соглашение, которые достигнуты при помощи средств, противоречащих соглашениям и обязательствам, вытекающим из договора от 27 августа 1928 года (пакта Келлога)». Решение Женевской лиги от 11 марта 1932 года гласит: «Члены Лиги постановили не признавать никакую ситуацию, никакой договор и никакое соглашение, которые были бы достигнуты при помощи средств, противоречащих Пакту Лиги Наций или Парижскому пакту (пакту Келлога)». В декларации от 3 августа 1932 года, принятой по поводу так называемой войны Чако между Боливией и Парагваем, 19 американских государств заявили, что они «не признают такое урегулирование настоящего (т. е. по поводу Чако) конфликта, которое не будет достигнуто мирными средствами; точно так же они не признают и законность территориальных приобретений, достигнутых с помощью оккупации или завоевания, осуществленного с помощью военной силы». Пакт Сааведры-Ламаса был заключен 10 октября 1933 года.
Карл Шмитт
отказывать в «признании» тем изменениям во владении, которые осуществлены посредством незаконного использования силы. Это означает, что Соединенные Штаты, отринув различие между Западным и Восточным полушариями, выдвигают притязание на то, что они будут принимать решение по поводу законности либо незаконности любого территориального изменения на всей Земле. Такое притязание затрагивает пространственный порядок всей Земли. Любой процесс в любой точке Земли может стать предметом интереса Соединенных Штатов. «An act of war in any part of world is an act that injures the interest of my country».1 Эти слова президента Гувера, сказанные им в 1928 году, Стимсон положил в основание своей доктрины. Практика jus publicum Europaeum была нацелена на то, чтобы конфликты удерживались в рамках системы определенного равновесия; теперь именем единства мира она универсализируется. «Без этой новой точки зрения (имеется в виду доктрина Стимсона), — говорил сам госсекретарь непосредственно по одному практическому поводу, в связи с конфликтом в Восточной Азии, — в соответствии с принципами прежнего международного права события в далекой Манчжурии никоим образом не касались бы Соединенных Штатов».2 Но с новой точки зрения были оправданы те интервенции, которые касались всех важных политических, социальных и экономических вопросов Земли.
Кроме того, в речь Стимсона от 8 августа 1932 года также включено — причем абсолютно сознательно -
1 Любой акт войны в любой точке мира является актом, на
носящим вред интересам моей страны {англ.).
2 Речь, произнесенная 8 августа 1932 года, а.а.О. «Except for
this viewpoint and these covenants (пакта Келлога и устава Лиги
наций) these transactions in far-off Manchuria, under the rules of
international law therefore obtaining, might not have deemed the
concern of the United States».
и совершенно категорическое отрицание понимания войны как своего рода дуэли, а также откровенное провозглашение перехода к пониманию войны как преступления, т. е. к превращению ее в уголовное преступление, пусть даже в самой речи еще не используется слово «crime»,' а говорится лишь о незаконности (illegality) и правонарушителях (wrongdoers и lawbreakers), а не прямо о преступниках (criminals).2
Здесь нам следует еще раз вспомнить об уже цитировавшихся нами словах государственного секретаря Сьюарда, сказанных им в 1861 году. Тогда, сразу после начала гражданской войны, Соединенные Штаты целиком и полностью находились в состоянии оборонительной самоизоляции. В то время как декларация 1932 года основывает их новую доктрину на интервенционистском принципе. Сам государственный секретарь Стимсон более точно выразил свои пространственные представления в докладе, произнесенном 9 июня 1941 года в военной академии Уэст-Пойнт. В этом докладе он говорит, что вся Земля сегодня стала не больше, чем в 1861 году, в начале гражданской войны, были Соединенные Штаты Америки, которые уже тогда были слишком малы для того противоречия, которое разделяло Север и Юг.
1 Преступление (англ.).
2 А.а.О. It (war) is an illegal thing. Hereafter when two nations
engage in armed conflict either one or both of them must be
wrongdoers — violators of this general treaty law (sc. the
Briand-Kellogg Treaty). We no longer draw a circle about them and
treat them with the punctilios of the duelist's code. Instead we denounce
'hem as law-breakers [Она (война) есть незаконная вещь. В бу
дущем, если две нации вступят в вооруженный конфликт, то
либо одна из них, либо обе, должны быть признаны правона
рушителями — нарушившими общий для всех закон (т. е. пакт
Бриана-Келлога. Мы не будем долго ходить вокруг да около и об
ращаться с ними с педантичностью, присущей дуэльному кодек
су- Вместо этого мы осудим их как нарушителей закона].
Это действительно важное утверждение с точки зрения проблемы нового номоса Земли, особенно если мы вспомним о нашей интерпретации тезиса cuius regio, ejus economia и его самой современной модификации cuius economia, ejus regio.
На этом мы прерываем наши рассуждения.
»
" 7. Война, ведущаяся при помощи современных
* средств уничтожения
Современное естествознание каждому властителю предоставляет средства и методы, расширяющие наши представления об оружии, а тем самым изменяющие и само понятие войны. Изменение смысла войны сопровождается развитием современных средств уничтожения. Это развитие еще больше ускоряет процесс изменения смысла войны. До сих пор оно шло в ногу с ходом понятия криминализации войны, т. е. с превращением ее в уголовное преступление.
Учитывая нашу тему, мы ограничимся рассмотрением нескольких пространственных аспектов, которые помогут нам прояснить пространственную картину войны, соответствующей прежнему европейскому международному праву.
•' а) Пространственная картина театра военных
*й действий, разделенного на сушу и море
В XVIII-XIX столетиях европейскому международному праву удалось достичь определенного ограничения войны. Военный противник были признан в качестве Justus hostis в отличие от повстанца, преступника и пирата. По мере того как исчезало разделение сторон на правую и неправую, война теряла кара-
тельный характер и пунитивные тенденции. Нейтра-итет смог стать реальным международно-правовым институтом, поскольку вопрос о справедливой причине войны, justa causa, стал юридически иррелевант-ным международному права.
Таким образом, война превратилась в отношения между равноправными суверенными государствами. Противники, равным образом признаваемые justi hostes, находятся относительно друг друга на одном и том же уровне. Это равенство обеих воюющих сторон, которое еще в XVII—XVIII столетиях как aequalitas hostium подчеркивали истинные основатели европейского международного права Альберико Джентили и Ричард Зач, получило оформление, однако, лишь в XVIII—XIX веках и распространялось лишь на европейскую сухопутную войну. Как гражданская, так и колониальная войны не были затронуты этим ограничением. Лишь европейская сухопутная война этой эпохи с обеих сторон велась посредством организованных государством вооруженных сил. Благодаря тому, что эти вооруженные силы воевали не с повстанцами, преступниками или пиратами, а с законным врагом, появилась возможность апелляции к различным правовым институтам. В частности, стало возможным не видеть более в военнопленных и побежденных объект наказания, мести или обмена заложниками, не рассматривать частную собственность как непосредственную добычу, захватываемую в ходе сухопутной войны, и сопровождать заключение мирных договоров само собой разумеющимися оговорками об амнистии.
В отношении морской войны были созданы иные военно-правовые институты. Здесь также одержали верх соображения гуманности. Но современный морской бой протекает иначе, чем битва на суше. Гибнущий военный корабль идет ко дну, и во время морских войн, которые вели европейские народы, редко случалось, чтобы боевой корабль поднимал белый
флаг и сдавался врагу, подобно крепости на суше. Кроме того, морская война, как известно, оставалась торговой и экономической войной, в которой принимали участие не только государственный военный флот. Морская война как таковая всегда оставалась войной за добычу. Она была ориентирована непосредственно на частную собственность вражеской и даже нейтральной стороны. Она всегда оставалась торговой войной, причем следует иметь в виду, что в соответствии с воззрениями XIX века торговля по своей сущности была свободным, т. е. не государственным, а частным делом.1 Вплоть до запрета каперства на Парижской конференции 1865 года уполномоченные государством частные лица активно участвовали в морских войнах. Американская гражданская война 1861 — 1864 годов в значительной степени была еще такой каперской войной. Но и после запрещения каперства частные лица и их частная собственность пассивным образом оставались непосредственным объектом морской войны и морского трофейного права. Нарушителями морской блокады и контрабандистами, чья собственность считалась законным призом, были не государства, а частные лица. Нарушение блокады и контрабандистская деятельность, осуществляемые нейтральными торговыми судами, считаются не нарушением нейтралитета, а действиями, предпринимаемыми свободными, т. е. не связанными с государством коммерсантами в пространстве свободного, т. е. не принадлежащего какому-либо государству моря, вследствие чего частная, т. е. негосударственная, собственность в результате во-
1 «Свобода торговли от государства как кардинальный принцип морского международного права» является темой работы Сержа Майвальда «Развитие государственного торгового мореплавания в зеркале международного права» {Serge Maiwald. Die Entwicklung zur staatlichen Handelsschiffahrt im Spiegel des internationals Rechts. Stuttgart, 1946).
енных действий становится непосредственным трофеем или законным призом воюющего государства.
Поэтому в этой морской войне отсутствует то последовательно проводимое абсолютное равенство сторон, характерное для европейской государственной войны, которое в отношении чисто армейской сухопутной европейской войны XIX века нашло отражение в классических правовых институтах, таких, например, как occupatio bellica, и которое основывается на том принципе, что суверенные государства в качестве таковых противостоят друг другу на одном и том же уровне и признают друг друга таковыми в том числе и в ходе войны. Во время морской войны военный корабль, составная часть организованных государством военно-морских сил, предпринимает враждебные действия непосредственно в отношении частных лиц как таковых. Противостояние врагов затрагивает здесь не равноправные государства как таковые — как некие организованные структуры. Напротив, здесь на одной стороне может находиться суверенное государство, а на другой — отличное от государства, в частности от своего собственного, под флагом которого оно выходит в море, частное лицо, которое как таковое отнюдь не тождественно по своей сущности воюющему суверенному государству и не может воевать против него, поскольку оно не находится с этим государством на одном уровне, хотя в ходе морской войны оно и в вступает с ним в прямое столкновение.
Это ведущее свою частную торговлю частное лицо, нарушающее блокаду или везущее контрабанду, рассматривается ведущими войну военно-морскими силами в качестве врага. Но является ли этот враг Justus hostisl Он не может им быть в том же самом смысле, что и равноправное со всеми прочими суверенное государство. Но с другой стороны, он не может рассматриваться и как враг во время войны на уничтожение против преступников и пиратов. Ведь наруши-
тел и блокады и контрабандисты действуют даже не вопреки международному праву, а лишь на собственный страх и риск. Они действуют не незаконно, а рискованно. Это возможно потому, что оба вышеназванных процесса, и нарушение блокады, и контрабандистская деятельность, разворачиваются по сути дела в нейтральной зоне двойной свободы, т. е. отсутствия государства, во-первых, в пространственном отношении — в области свободного моря и, во-вторых, в содержательном — в сфере свободной торговли. Но и ведущее морскую войну государство, осуществляющее призовое право, и ведущее торговлю частное лицо, суда и собственность которого становятся объектом государственного призового права, предстают перед призовым судом и подчиняются приговору независимого от воюющего государства судьи, который руководствуется международно-правовыми нормами призового права. Таким образом сохраняется идея правового равенства и одинакового в правовом смысле уровня, каковое равенство при чисто государственной войне основывается на квалификации врага в качестве Justus hostis и взаимном aequalitas, возникающем в силу этой квалификации врага. Сущность ограниченной международным правом сухопутной войны и все ее классические правовые институты разрушаются в том случае, если нарушается специфическое представление о Justus hostis как о государстве. Поэтому призовая юстиция призвана служить тому, чтобы в ходе морской войны подобное нарушение избегалось и формально, и в принципе.
Таким образом, совершенно экстраординарное значение призового арбитража состоит в том, что он создает возможность применения права и равенства сторон также и в отношении негосударственного врага. В этом заключается международно-правовой смысл этого классического института. Поэтому он обладает фундаментальным значением для воен-
но-морского права. Если он исчезнет, то изменится характер и самой морской войны. В своей классической форме этот институт был создан прекрасно сознававшими эту связь великими призовыми судьями наполеоновской эпохи, которые с полным правом разрабатывали его не как национально-государственный, а как непосредственно международно-правовой, интернациональный институт. Хотя призовой судья назначается и утверждается в должности своим национальным государством, он тем не менее возводится в эту должность для решения не национально-государственных, а непосредственно международно-правовых задач и осуществления соответствующих полномочий.
Все такого рода основывающиеся на правовом и моральном равенстве международно-правовые институты связаны с пространственным противостоянием, характеризующимся одним и тем же типом театра военных действий. В классическом международном праве сухопутный и морской виды войны отделялись друг от друга. Сухопутная война прежнего европейского международного права была сугубо континентальной, а морская — сугубо морской. Оба пространственных порядка, соответствовавшие обоим различным видам войны, четко различались и пространственно. Конечно, существовала возможность пространственной встречи сухопутной и морской войны, применения средств ведения сухопутной войны на море и наоборот. Но в силу уровня военно-технических средств XIX века воздействие с суши на море не слишком принималось во внимание. Более существенной была обратная возможность — возможность воздействия с моря на сушу. Блокада гаваней или береговой линии и их бомбардировка с моря представляют собой наиболее очевидный пример морской войны, не ограничивающейся морским пространством, но воздействующей при помощи специфических военно-морских средств непосредственно на сушу. Но и это столкновение сухопутной и мор-
ской войн разворачивалось на периферии обеих этих сфер, моря и суши, и не перемещалось далеко вглубь континента. Так, оно не приводило к тому, чтобы у осуществлявшей блокаду морской державы возникала необходимость брать на себя какие-либо международно-правовые обязательства в отношении блокируемой страны и ее жителей, подобные тем, которые при occupatio bellica оккупирующая сухопутная держава берет на себя в отношении оккупируемой территории и ее населения. Перенос морской войны в континентальную сферу приводил лишь к возникновению ряда пограничных вопросов относительно блокады и призового и трофейного права, например к вопросу о том, может ли призовое право осуществляться на реках, или к проблеме так называемых сухопутных призов. Присущее каждому из этих видов войны либо сугубо территориальное, либо сугубо морское субстанциальное содержание отнюдь не ставилось под сомнение этими пограничными случаями. Суша и море как до того, так и после, были четко отделенными друг от друга мирами, а вследствие этого и различными театрами военных действий, каждый из которых соответствовал строго определенному виду войны.'
Люди XIX столетия привыкли к международно-правовому разделению суши и моря как различных пространственных порядков и различных территориальных сфер и к тому, что свободное море начинается за границей трехмильной зоны береговой линии. Но они едва ли осознавали, в чем сущность самих этих пространственных порядков и их воен-^ но-правовых соответствий. Например, земля морской державы Англии без какого-либо учета сугубо морского характера этой островной империи в целом рассматривалась как такая же твердая суша и арена
1 См. работу Фердинанда Фриденсбурга «Театр военных действий» (Ferdinand Friedensburg. Der Kriegsschauplatz. Berliner Dissertation, 1944).