Объяснение проблемы 4 страница
; • • «В условиях существования различных призваний, отделяющих членов культурного общества друг от друга, ожидается, что каждый индивид
1 должен обладать собственным талантом, неким уникальным умением, которого нет у других; таким образом, общество распадается на части, и никто не воплощает собой дух общества в целом».90
Утрата подобного коллективного единения, чувства целого была заменена новым видом ассоциации индивидов, более приватным союзом, основанным на идее дружбы. Утрата на социетальном уровне была компенсирована обретением на индивидуальном уровне возможности установления качественно нового типа отношений между индивидами, отношений, основанных на доверии и явивших себя в виде дружеских уз.91
Оба эти изменения: исчезновение одного типа отношений и расцвет другого — произошли одновременно, будучи связаны с углублением разделения труда. Данное усиленное развитие разделения труда означало дальнейшую дифференциацию ролей в рамках социальной системы. А ускоренная дифференциация ролей, в свою очередь, увеличила вероятность диссонанса между ролями, ролевых конфликтов и неопределенности, которую, в свою очередь, можно было устранить лишь посредством увеличения приспособляемости и доверия как такого аспекта человеческих отношений, которому удавалось каким-то образом не оказаться в числе объектов взаимных ролевых ожиданий, благодаря чему доверие не стало составной частью ролевого взаимодействия. Все это, как показал Алан Сильвер, привело к переоценке дружбы как морального идеала, и этот новый идеал, как явствует из нижеприведенного высказывания Юма, отразил новую форму социабильности или симпатии:
«Замечателен тот факт, что человека гуманного ничто так не трогает, как проявление особой деликатности в любви или дружбе, например, когда кто-нибудь внимательно относится к малейшим интересам своего друга и готов жертвовать ради них значительнейшим из своих интересов.
 * См.: Фергюсон А. Опыт истории гражданского общества. Москва, РОССПЭН 2000, Часть ГУ, разд.1, с. 263-267.
* См.: Фергюсон А. Опыт истории гражданского общества. Москва, РОССПЭН 2000, Часть ГУ, разд.1, с. 263-267.
: •■. Доверие, сегментация... 43
Такая деликатность имеет мало значения для общества, потому что она заставляет нас обращать внимание на самые мелочи; но она тем больше привлекательна, чем незначительней сами интересы, и является доказательством высокого достоинства того лица, которое способно ее проявлять. Аффекты так заразительны, что они с величайшей легкостью переходят от одного лица к другому и порождают ответные движения во всех человеческих сердцах. Если дружба проявляется при помощи очень заметных признаков, мое сердце заражается теми же аффектами и согревается теми же теплыми чувствами, которые я воспринимаю. Такие приятные ощущения должны вызвать у меня привязанность ко всякому лицу, которое пробуждает их во мне».92
Чдесь налицо все социальные атрибуты данной новой формы социальных отношений, отождествляемой со следующими составляющими доверия:
а. с его эмоциональной ценностью для индивидов,
б. с существованием его вне сферы реципроктности, обмена и инстру
ментального расчета,
в. с его направленностью на индивида, а не на общество,
г. с моральной оценкой его как вершины человеческой добродетели,
д. с его ролью как новой формы социальной солидарности (той самой
«смазки», о которой упоминает Сильвер в связи с Адамом Смитом).
Установив связь между доверием как дружбой и увеличением числа ролей в процессе углубления разделения труда, мы должны перейти к наиболее трудной масти нашего предприятия: уяснению того, что такое доверие. Выделив — как аналитически, так и, в определенной мере, исторически — условия его появления, мы должны теперь потрудиться над его дефиницией. Можно предположить, что доверие представляет собой разновидность веры в добрую нолю другого, принимая во внимание непрозрачность намерений и расчетов пого другого. Напомним, что непрозрачность намерений есть следствие присутствия в поведении другого некоторых аспектов, не являющихся частью ролевого поведения: в противном случае, действия другого не были бы для нас загадкой, их можно было бы «просчитать», исходя из определяющей их скстемы ролевых ожиданий; такие действия были бы выражением уверенности, а не доверия. Какова же природа данной веры? Придя к пониманию доверия как чего-то, существующего за пределами системы, в ее шзорах, в неопределенных «пространствах», существующих между его ролевыми дефинициями, мы еще не постигли содержания этого понятия. Теперь пора перейти к решению данной задачи.
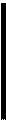 ■ ;js«Si
■ ;js«Si
Глава 2
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ И ПАРАДОКССОЛИДАРНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ И ПАРАДОКССОЛИДАРНОСТИ
Безусловность и деятельность
Из предыдущей главы явствует, что доверие представляет собой разновидность веры, то есть, оно безусловно и не сводимо к выполнению ролевых ожиданий относимых к субъекту как участнику определенной системы. В этом, вероятно, и заключается одна из главных его черт. В отличие от латинского термина fides", предполагающего обязательность вознаграждения (эта обязательность, чаще всего, есть следствие понимания/zofes в духе аскриптивно определяемой лояльности), безусловность доверия есть, прежде всего, необусловленность его тем, как отреагирует на него другая сторона — объект доверия.' Как отмечал, в частности, Макс Вебер, «то, какие именно обязанности несет перед другим человек, связанный с этим другим узами fides, зависит от конкретной природы их взаимоотношений».2 Подобное, как следует подчеркнуть, являет собой противоположность тому определению доверия, которое мы пытаемся сформулировать здесь; ведь если бы доверие к кому-либо зависело от степени взаимности наших отношений с этим человеком (иначе говоря, было бы обусловлено либо наличием взаимности, либо нашим рациональным ожиданием взаимности), речь, в этом случае, шла бы уже не о доверии, а об уверенности [confidence] (возможной благодаря наличию в обществе системно определяемых форм обмена и реципроктности). В то же время, именно тем, что доверию присуща безусловность, объясняются столь многочисленные попытки трактовать его в системе «теологии», ибо безусловность является определяющей чертой в равной степени и веры, и доверия — притом, что между тем и другим имеется ряд важных различий.
Итак, хотя и вере и доверию свойственна безусловность, объекты их безусловной веры сильно рознятся между собой: для веры это Бог, для доверия — человек. Возможно, в этом состоит еще один великий парадокс понятия доверия, предполагающего вступление в безусловные отношения с некой сущностью, по натуре своей являющейся далеко не безусловной. В опреде-
 ' Вера (лат.). — Прим. перев.
' Вера (лат.). — Прим. перев.
Деятельность, вежливость... . 45
смысле, именно сознание парадоксальности данной ситуации под-кшкнуло Джона Локка к выработке собственного видения политического порядка в обществе. Ведь, в конечном счете, «определяющим условием» чело-нрчоской деятельности является не что иное, как преследование людьми соб-1 темных интересов. Именно реализация собственных интересов, предпола-I мм и цая свободу деятельности, и вытекающие отсюда проблемы коллективного действия, фактически составляют суть политической философии Лок-нй ' I [роблема возможности коллективной деятельности как таковой, — а это, и сущности, и есть проблема доверия, сформулированная Локком как пробле-мп соблюдения независимыми индивидами взятых в отношении друг друга моральных обязательств — осознавалась им настолько остро, что он даже предположил, будто третьим агентом, гарантом договорных отношений на i чучай несоблюдения договора, является страх перед осуждением со стороны неких потусторонних сил. С этим связан и его крайний скептицизм по in ношению к атеистам, которым, как он полагал, нельзя доверять: Джон Дунн приписал данный скептицизм «логической посылке, заставляющей его [Лок-hn| говорить об отсутствии у них надежных оснований, позволяющих, в последний момент, обуздать собственные эгоистические и социально разрушительные желания».4 Можно сказать даже, что для Локка многократно повторенная игра «Дилемма узника» продолжается и в потустороннем мире, вслед-Сткие чего «для атеиста ни вера (fides), ни договоры, ни клятвы, словом, ничто из того, что является связью (vincula) людей в обществе, не может считаться чем-то устойчивым и священным; так что, стоит хотя бы мысленно устранить Бога, как все перечисленные связи окажутся разрушенными».5 Согласно Локку, удержать в узде людские страсти, заставить их сообразовывать с другими собственные интересы, умерять собственные соблазны, а также гарантировать выполнение данных ими обещаний способен, в конечном счете, только гнев Господний, выступающий как некий третий участник — пришелец из жизни будущей (неземной).6
Однако, ввиду того, что все мы теперь составляем атеистическое обще-сиво, нам не остается ничего другого, кроме как осознать, что безусловность доверия есть нечто такое, что имеет место вне существующих в обществе нчаимных ролевых ожиданий. Поэтому, рассматривая данную проблему с со-нременной, светской точки зрения, мы должны обратить внимание на связь доверия с теми явлениями, которые антрополог Виктор Тернер называл «пограничными», существующими одновременно «наряду» с такими категориями, как тендерная и профессиональная принадлежность, иерархия, субординация и возраст, и «между» ними, — короче, находящимися вне категориальных (или ролевых) рамок, охватывающих всю совокупность определений, связанных с разделением труда.7
Одним из важных аспектов тернеровского понятия пограничного является то, что в период краха социальных иерархий и социальных различий оно
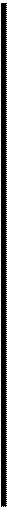 46 . .., Адам Б. Селигмен. Проблема доверия.
46 . .., Адам Б. Селигмен. Проблема доверия.
играет роль некой промежуточной инстанции, позволяющей зародиться на их обломках (это зарождение всегда представляет собой ритуально обставленный процесс) тому или иному «сообществу» — некой общности, определить которую можно как реализацию тех «генерализованных социальных связей», что существуют вне (или в основе) всех человеческих взаимодействий и общества как такового.8 Полное отбрасывание социальных рангов и различий, получающее выражение в таких ритуализованных действах, как обнажение тел, всевозможные дурачества, обмен ролями, обеты молчания и пр., как бы является для участников действа актом подтверждения безусловного взаимного признания (признания, на которое не влияют различия в ролях и в статусах, коими обладают члены данной социальной системы). Таким образом, предпосылкой взаимности и коллективного самоутверждения является одинаковость. Пограничные моменты в жизни «сообществ», существующих вне системы дифференциации, являются моментами одинаковости.9 Стоит только сопоставить все это с тем, что мы выяснили ранее о пограничном характере доверия — и мы начнем приближаться к сути дилеммы современности; ибо в отличие от исследованных Тернером племенных обществ, погранич-ность, присущая безусловной вере, связана не с одинаковостью или тождеством участников, а, наоборот, с их различиями, с их непохожестью. Объектом доверия является некий неизвестный, неверифицируемый пласт в поведении (или реакциях) другого, который, выпадая из какой бы то ни было системной классификации (как это имеет место в ритуализованном сообществе), в то же время, не нуждается в том, чтобы взаимодействующие субъекты были:, бы тождественными друг другу в существенных аспектах. Именно непохожесть другого, а отнюдь не то, что составляет нашу с ним общность, является объектом «доверия» к этому другому.
Именно в том, что доверие как определенное отношение к инаковости; другого имеет своим объектом человека, а не какую бы то ни было трансцен-; дентальную сущность, и заключается отличие доверия от религиозной веры. Фактически, проблема доверия как таковая возникает вследствие присущего миру людей, миру человеческих занятий и интересов, беспрерывно углубляющегося внутреннего размежевания (и это мы уже увидели на примере такого явления, как дружба). Поэтому есть смысл вновь обратиться сейчас к рассмотрению данной стороны процесса секуляризации — ведь он является тем историческим фоном, который позволяет нам ощутить, насколько возрос уровень доверия (или потребность в доверии) в мире, все более освобождающемся от веры.
В качестве еще одного подтверждения тезиса о том, что своеобразие доверия заключается в его отличии от веры (сочетающемся, однако, с такими качествами доверия, как обращенность его к непрозрачным, принципиально непохожим на наши собственные, намерениям другого человека), полезно было бы вспомнить некоторые из наиболее известных определений религии, вроде
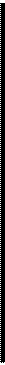 кв'кчго)! at. Деятельность, вежливость... . 47
кв'кчго)! at. Деятельность, вежливость... . 47
гех, что принадлежат Г. Ван-дер-Леуву Рудольфу Отто или Эмилю Дюркгей-му."1 Дюркгейм подчеркивал совершенно особый, ни с чем не сравнимый ха-(шктер священного." Эта непохожесть ни на что другое или, говоря словами Рудольфа Отто, ноуменальность священного проявляется в его невыразимос-III.'2 Именно тот факт, что ноуменальное явлено нам в виде объективной, на-чодящейся вне нас самих сущности, позволяет воспринимать его как нечто несказанное — как то, о чем нельзя упоминать всуе. Сверхъестественное из-ннчально понималось людьми как сущность, доступная восприятию, но, вме-iте с тем, «неопределенная в своей общей удаленности».13 По утверждению шких мыслителей, как Дюркгейм и Ван Дер Леуву, фундаментальным осно-винием любого религиозного верования является «в высшей степени исключительный и необычайно впечатляющий «Другой».14 Внушаемое этой инако-мпегью чувство удивления и благоговения и есть то, что принято называть снмюстью. «Благоговение и восторг перед чем-то совершенно иным» — In la liter aliter—и составляло, согласно Рудольфу Отто и Питеру Бергеру, «лей-i мотив встречи со священным».15
Вместе с тем, если изображение инаковости как сакральности (или как сиойства сакральности) является характерной чертой религиозного мышления tout court, то западная религиозная традиция развивала данное представление о ноуменальности иного весьма своеобразным способом. Ибо тп священная «инаковость», которую обнаружил Дюркгейм в первобытном тотемизме, в контексте великих исторических религий проявляла себя уже как трансцендентализм. Попросту говоря, представление о чем-то совершенно ином и есть идея Бога. Как отмечалось выше, ту же мысль можно выразить и через отрицание: Ein begriffener Gott ist kein Gotf. Кроме того, в иудейско-христианской традиции именно через противоположность пой инаковости определялось собственное я и отношения между различными я. Бог мыслится как «объект», существующий «надо Мной и в отличие от Меня». И в качестве такового, то есть кого-то совершенно иного, lior является в принципе непознаваемым. В отличие от него, «Я ни в коем глучае не является Иным... оно есть... то, чем уже в сущности являемся нее мы».16,*^ знание о этом я противоположно инаковости Бога, не позна-наемой в принципе. Эта трансцендентная инаковость, состоящая как раз в нашем незнании ее, и есть основа всего того, что мы знаем о себе самих, и, как мы увидим позже, она есть также и отправной пункт любых попы-тк узнать о чем бы то ни было, то есть попыток познать любых «посюс-i оронних» носителей инаковости.
Ключевым моментом данного процесса является примордиальная дифференциация уровней мироздания — представление о трансцендентном как о чем-то, вознесенном над бренностью земного бытия и противоположном все-
 * 1>ог, схваченный в понятии, не есть Бог (нем.). — Прим. перев.
* 1>ог, схваченный в понятии, не есть Бог (нем.). — Прим. перев.
Адам Б. Селигмен. Проблема доверия.
му земному. В этой бездне, разделяющей земное и трансцендентное, Карл Ясперс, Макс Вебер и другие мыслители усматривали корни всех мировых религий, всех теодицей.17 Понятие бездны важно, так как им преодолевается изначальный монизм мистического мировоззрения, представляющего мир неким заколдованным садом. Мировые или этические религии, покончившие с неразличением трансцендентного и земного уровней бытия, выдвинули новую концепцию социального устройства как не зависящего от устройства вселенной (понимаемой теперь как область трансцендентного), хотя и находящегося в напряженных отношениях с этим последним.18 Напряженность между двумя названными уровнями бытия и попытка преодолеть так называемый Осевой разлом лежит, согласно Максу Веберу, в основе всех теодицей, а значит и всех попыток осмысления мироздания и обретения благодаря этому верифицируемого, надежного знания.19
Попытка перекинуть мост через эту пропасть — обрести, говоря словами Вебера, спасение — возымела к тому же существенное воздействие на способ презентации инаковости в религиозной мысли. Теперь уже инаковость не представлялась инаковостью демонов, различных божественных существ или бродячих душ. Hinterwelt, этот «невидимый мир», дотоле отданный на откуп магии, был вытеснен из сферы повседневной жизни.20 Тем самым инаковости зачарованного мира были приданы свойства трансцендентности. В рамках западной религиозной традиции высшим выражением инаковости стал логос персонифицированного Бога-создателя. Подобное стало возможно благодаря радикальному разрыву с традицией поклонения еврейскому богу Яхве.21 Саму историчность человеческого бытия стали определять исключительно через противопоставление его данному трансцендентному существу, как отделение от этого существа, как полную независимость от космоса, как нахождение вне космоса.
Решающее значение, как уже отмечалось, имеет здесь тот факт, что абсолют, трансцендентная инаковость Бога играет первостепенную роль в сознании собственного я. Индивид является индивидом, прежде всего, относительно Бога. Каждый индивид суть уникальное создание, «непосредственно отвечающее перед Богом за благополучие собственной души и за благополучие ближнего своего».22 Ценность индивида проявляется лишь через «посвящение себя Богу».23 Согласно Трельчу, «лишь товарищество с Богом способно придать ценность индивиду». Как подчеркивал Марсель Мосс, представление о личности как о некой рациональной субстанции, субстанции индивидуальной и неделимой, имеет своим метафизическим основанием христианство.24
Не менее значим и тот факт, что, по христианским представлениям, отношения между индивидами основываются на обретении единения в Боге. Объединение внутри чего-то совершенно иного имело определяющее значение не только для отдельно взятого л, но и для братства в Боге. Как уточняет Трельч,
Деятельность, вежливость... . 49
«индивидуализм становится абсолютным только вследствие этического подчинения индивида Богу, вследствие наполненности индивида Богом; с другой стороны, в обладании Абсолютом индивидуальные различия сливаются в безграничную любовь, прототипом которой является сам Бог-Отец, к которому тянутся все души и в ком все они соединяются».25 Мы можем с максимальной наглядностью отобразить данные по-новому осмысленные отношения в виде схемы — наподобие той, что приводится ниже.
Трансцендентное
Опосредованное
Здесь мы имеем дело с отношением, характер связей которого заключается в наборе смыслов, находящихся вне этих связей и состоящих уже не в пристотетелевской добродетели, а в новых принципах веры, отраженных в иысказывании Августина: «Amicitia numquam nisi in Christi Fidelis est»*,26.
Так в трансцендентной инаковости и amore Dei". люди обрели не только собственную индивидуальность, но и но и саму модель отношений с земными, посюсторонними иными. Эллинистический Эрос подвергся преобразованию, приобретя некоторые черты христианской Агапе?1 Любовь к Богу, caritas, определила собой и характер любови к человеку cupidas. Эротическая любовь, обиталищем которой является мир земной, эта любовь с присущими ей земными формами самопроявления была переосмыслена с позиций трансцендентной, всеохватывающей любви к Богу — АгапеР При всем разнообразии выд-иигаемых различными учеными интерпретаций соотношения в христианской традиции Агапе и Эроса, все едины в том, что с появлением христианского понятия Агапе источником любви сделалось трансцендентное иное.29
Однако, великим парадоксом Западной мысли явилось то, что практика описания данного непознаваемого иного (даже имени которого не следовало упоминать всуе) в терминах трансцендентности, потусторонности, в конечном счете, привела к отрицанию этого иного. Подобное отрицание достигло сиоего апогея в попытке аскетичного протестантизма соединить между собой природу и милосердие, мир и церковь и привело к тому, что была радикальным образом пересмотрена динамика соотношения «я» и иного. Было покон-
 * Дружба бывает лишь между теми, кто верен Христу (лат.). — Прим. перев. ** Любви к Богу (лат.). —Прим. перев
* Дружба бывает лишь между теми, кто верен Христу (лат.). — Прим. перев. ** Любви к Богу (лат.). —Прим. перев
Адам Б. Селигмен. Проблема доверия.
чено с характерной для средневекового христианства относительной самостоятельностью посюсторонней и потусторонней сфер. Попытка преобразовать природу по законам милосердия и переделать этот мир в соответствии с постулатами мира иного, в конечном счете, обернулась утратой трансцендентной инаковости. Если средневековому католицизму удавалось разрядить напряженность между сферой земного и сферой потустороннего при помощи таинств, учения о деяниях, а также привлечения внимания к таким опосредующим персонажам, как Дева Мария и святые, то Реформация самым радикальным образом вернула присущее этим двум сферам состояние взаимной напряженности.30 Уже сама по себе нарочитость, с какой было осуществлено указанное восстановление напряженности между природой и милосердием, между посюсторонним и потусторонним, породила равный по силе ответный импульс, направленный на то чтобы либо разрядить эту напряженность, либо преодолеть ее. Одна из попыток разрешения напряженности воплотилась в неповторимом аскетизме внутреннего мира, свойственного сектам протестантов-аскетов. Насаждение церкви в миру или, точнее, переделка мира по образу церкви превратилась в особую разновидность освоения или рационализации мира: речь идет о преобразовании посюсторонней, мирской природы, осуществляемом по законам потустороннего, трансцендентного милосердия.31 Данная логика рационализации мира через его освоение означала не только усиление дифференциации в сфере устройства сущего. В конечном счете, она привела к утрате самого трансцендентного.32
Кончилось тем, что привнесение милосердия во внутренний мир отдельно взятого верующего, интегрирование его в сам строй мирской жизни обусловило исчезновение трансцендентного как такового. Кальвинистский deus disconditus" все более утрачивал связь с миром людей. По мере того как милосердие обретало мирское звучание, воплощаясь в таких идеалах, как романтическое воображение или национальное достоинство, инаковость все более лишалась присущей ей ранее трансцендентности.33 Вера не могла уже долее держаться на тех подпорках, какими были для нее представления о трансцендентном Боге, эти представления не способны были продолжать служить основой межличностных отношений. Место веры занял процесс, который можно охарактеризовать как поиск доверия в самом широком понимании этого слова. Фактически, все, что я пытаюсь здесь сказать, сводится к утверждению о том, что процесс секуляризации и замены божественных атрибутов человеческими также предполагает замену веры доверием (или, точнее, поиска веры поиском доверия). Этот процесс и составил основное содержание эпохи, которую мы стали именовать современной. Возвращаясь к нашей метафорической схеме, заметим, что при усечении вершины данного треугольника должна возникать новая форма взаимоотношений личностей; в основе ее должны
 * Безусловный Бог {лат.). — Прим. перев.
* Безусловный Бог {лат.). — Прим. перев.
Деятельность, вежливость... . 51
■шжать прямые связи между индивидами, исключающие посредничество в виде учистия каждого из индивидов в отношениях с кем-то третьим.
Таким образом, до определенной степени, историю современного сознания можно рассматривать как историю непрекращающихся попыток создания альтернативы сфере трансцендентного, некогда признанной источником религиозной веры. Если придерживаться нашей модели, то можно интерпре-i ировать этот процесс как поиск некоей понятийной связи, существующей за пределами сферы (системно определяемых) социальных отношений, связи, способной — несмотря на ее мирскую и потому социально ограниченную природу (ограниченную как раз тем, что мы определяем как ролевые ожидания) — играть роль представителя всей совокупности человеческого опыта, щипанной Тернером «родовой человеческой связью».
Приведем один интересный пример, относящийся к эпохе исследований и открытий, принесшей не только знания о неведомых доселе землях, но и, 'но еще более важно, знания об иных народах. Спор о южноамериканских индейцах, происходивший в 1550 году в Вальядолиде между Лас Казасом и ('спульвидой, как раз затрагивал сущность отличия индейцев от нас самих и ставил вопрос о том, насколько велика эта их «инаковость»; иными словами, речь шла о том, в какой степени индейцы являются людьми и, соответственно, в какой мере совместимы они с существующими системами социальной классификации — в данном случае, с системами христианской религии.34 Пример другого подхода дал Монтень: «инаковость» каннибалов стала для него поводом к оценке собственного общества, разрываемого религиозными иойнами.35 В самом деле, как проницательно утверждал Эдмунд Лич, указания на то, насколько выпадают из нормы «другие» (а они порой действительно чудовищно отклоняются от общего правила) всегда служили способом самоутверждения, изображения самих себя в качестве истинных представите-мей рода человеческого.36 Однако, и помимо подобной моральной оценки другого (о коей можно вести речь, начиная с фантазий Колумба о хвостатых людях и вплоть до «Зеркала для человека» Клайда Клукхона), идентичность западных мужчин и женщин чаще всего формировалась через сопоставление себя самих с инаковостью «дикаря» или восточного человека.37
Еще более существенно то, что поиск альтернативы вере, способной представлять и удостоверять индивидуальную идентичность (а вместе с ней и социальные отношения со всей их подвижностью), превратился в попытку отыскать первоистоки смыслопорождающего порядка в самом индивиде. Перенос тгой репрезентативной функции внутрь индивида принимал разнообразные формы. Если говорить о психологической традиции, то такого рода перенос наиболее очевиден в представлениях Фрейда о «вневременности» бессознательного, о независимости бессознательного от реальности и сознания. Аналогичным образом описывает архетипы коллективного бессознательного Юнг, понимая под ними «коллективную универсальную [систему], одинаковую у
Адам Б. Селигмен. Проблема доверия.
всех индивидов», не зависящую от их сознания и, вместе с тем, конституирующую их бытие.38 Эти соответствующие современному сознанию психологические концепции (фактически, являющиеся также и концепциями социологическими) объединяет между собой именно то, что данного совершенно другого (правда, уже не святого) они помещают внутрь человеческой психики. Психика (душа) самого человека становится местоположением Другого. Видимо, именно это хотел выразить Фуко своим высказыванием о том, что «человек есть недавнее изобретение».39 Что же касается человеческого познания, то для него сам человек стал проблемой только тогда, когда, со смертью Бога, он превратился в матрицу самого себя.
Об инаковости души, а, следовательно, и о том, что сами по себе мужчины и женщины суть не то, что они есть, повествует множество литературных произведений, таких, как, например, «Франкенштейн» Мери Шелли, где эта внутренняя инаковость преподносится в образе Doppelganger*. Фактически, тема Doppelgdnger, тема двойника, являлась одной из излюбленных тем писа-1 телей XIX века. Э. Т. А. Гофман, Жан Поль, Оскар Уайльд, Мопассан, Мюссе,! Эдгар Аллан По, Достоевский — все они обращались к данной теме в целом ! ряде своих произведений.40 Зачастую двойник выступает соперником героя произведения, то есть его собственного я. Иногда же (как, например, в «Частных воспоминаниях и признаниях человека, имевшего основания для прегрешений» Джеймса Хогга) он изображается как сатанинское воплощение зла. Для нас же в теме двойника важно то, что двойник есть образ самого себя, собственного я, одновременно и соперничающий с этим я, и обеспечивающий (через выведение на поверхность сознания потаенных свойств личности) всю полноту самовоплощения л. Говоря словами двойника Уильяма Вильсона (героя произведения Эдгара По), «И жил ты во мне — ив смерти моей явится тебе тот же образ, образ самого себя, бесповоротно себя же и умерщвляющего».41 В отсутствие Бога человек становится своим собственным двойником, конституирующим (а порой, как это часто случалось с двойниками литературных героев, и разрушающим) самого себя. А это означает, что образ двойника явился зеркальным отражением тех самых представлений о дружбе, об утверждении собственной ценности в глазах другого, которые определили в свое время традиции Шотландского просвещения (правда, данные представления сложились за целых три поколения до появления рассматриваемых литературных течений).