Добродетельные крестьяне и порочные начальники
Согласно фабуле районных процессов, порочные начальники эксплуатировали крестьян и совершали злоупотребления, а крестьяне были их жертвами. Нет почти никаких оттенков в черно-белой картине противостояния крестьян и их начальников (от председателя колхоза до секретаря райкома) и никаких намеков на возможность преодоления разделявшей их пропасти. Ту же риторическую фигуру можно найти в письмах крестьян в «Крестьянскую газету»: начальники (включая председателей колхозов, а иногда и бригадиров) — «они»; колхозники — «мы». Конечно, в реальной жизни дихотомия правящих и управляемых в советской деревне второй половины 1930-х гг. значительно сложнее, поскольку председатели были в основном из местных крестьян и этот пост зачастую становился объектом жестокой конкурентной борьбы между различными деревенскими группировками. Однако такие нюансы никогда не всплывали на процессах, где драма разворачивалась вокруг противостояния добродетельных крестьян на свидетельском месте и порочных руководителей на скамье подсудимых.
Обычно крестьяне-свидетели играли главную роль в создании подобного сюжета. Но бывали и исключения. Например, на процессе в Щучьем, выделявшемся среди других районных процессов тем, что подсудимые пошли на сотрудничество с обвинением, двое подсудимых так ответили на вопрос прокурора, почему они не пытались вовлечь крестьян и рабочих в свою антисоветскую деятельность:
«СЕДОВ [директор сахарозавода]: Безусловно, если бы они [рабочие] узнали, что я троцкист-вредитель, они бы разорвали меня...
ПОЛЯНСКИЙ [директор МТС]: Да если бы я им только намекнул о вредительстве, они [крестьяне] в лучшем случае избили, а то просто убили бы»71.
Свидетельства крестьян на процессах рисуют множество ярких картин того, как местные начальники издевались над ними и упивались своей властью:
«Ах, так, ездишь во ВЦИК! У нас власть на местах. Что хочу, то и сделаю».
«Я — коммунист, а вы — беспартийные, сколько вы ни наговариваете на меня, все равно вам веры не будет».
«Ты бы такую сволочь лучше застрелил, все равно ничего тебе за него не будет» (замечание районного руководителя подчиненному, избившему крестьянина).
«Подохло бы человек 5, научились бы, как нужно работать, стервецы и бездельники» (слова районного руководителя, обращенные к колхозникам во время голода 1933 г.).
«Хлеб надо дать лошадям, а колхозники обойдутся и без хлеба»72
В сообщениях о процессах подчеркивается «глубокая ненависть», с какой крестьяне говорили о своих бывших притеснителях на суде. Перед процессами и во время их проведения, по словам газет, из соседних колхозов шли резолюции и петиции с требованием смертного приговора обвиняемым, которые награждались такими эпитетами, как «презренная гадина» и «гнусные гады». Постоянно описывались переполненные залы суда, внимательно слушающая публика, полная негодования против обвиняемых.
«Каждый вечер около школы собираются толпы колхозников... За время процесса областному прокурору, присутствующему на суде, передано лично гражданами до 50 заявлений с указанием на новые факты злоупотреблений и беззаконий, совершавшихся Семенихиным, Колыхматовым и другими»73.
Одна из самых драматичных сцен, описанных в прессе, — когда крестьянка Наталья Латышева, пройдя на свидетельское место, повернулась к бывшим руководителям Новгородского района.
«ЛАТЫШЕВА: Товарищи судьи! Разве это люди? Гады они, людоеды. (В зале движение, возгласы одобрения, на скамье подсудимых — замешательство.)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Свидетель, от вас требуются факты.
ЛАТЫШЕВА: Вы уж меня простите, товарищи судьи, но как увидела я этих гадов, сердце не выдержало. И это факт, что они гады!.. Вот они сидят здесь, проклятые, никогда им этого колхозник не забудет»74.
В истории, поведанной Латышевой, как и в рассказах многих других свидетелей на процессах, вмешательство района в сельскохозяйственные дела — в частности, определение посевных планов — выглядит необоснованным и нелепым, поскольку районные чиновники совершенно невежественны. К примеру, колхозу Латышевой район никак не давал создать коневодческую ферму и заставлял возделывать невыгодные и не соответствующие местным условиям культуры. Но колхозников было не запугать.
«ЛАТЫШЕВА: Но мы не сдались. Мы решили завести рысаков. Так и сделали, не сломили нас враги колхозов. На удивление всем, выстроили конеферму, а сейчас у нас 21 лошадь чистопородного орловского племени. (По залу стихийно проносятся аплодисменты, слышатся голоса: "Молодцы!", "Правильно!")...
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Имеете ли вы, свидетель, что-либо еще добавить?
ЛАТЫШЕВА: Имею. (Колхозница поворачивается к подсудимым и, стоя лицом к лицу с врагами народа, громко произносит.) А все-таки наша взяла, а не ваша. Мы победили!»75
«Наша взяла, а не ваша!» Как хотелось бы закончить рассказ на этой торжествующей ноте. Но в самом ли деле крестьяне одержали крупную победу над своими притеснителями? На лубочной картинке «Как мыши кота хоронили» мыши радуются тому, что кот умер сам, а не тому, что им удалось убить его. Точно так же и на процессах 1937 г. крестьяне вряд ли могли бы сказать, что это они «убили кота»: районные руководители, чье падение они встречали с таким ликованием, были не свергнуты в результате местных крестьянских бунтов, а сметены политическим ураганом, налетевшим из Москвы. Крестьяне, самое большее, могли чувствовать себя причастными к этому событию, поскольку они не только давали показания на процессах, но и раньше писали множество писем с жалобами и разоблачениями местного начальства. Однако можно утверждать, что доля их участия в происходящем была не больше, чем у зевак, сбежавшихся поглазеть на публичную казнь.
Процессы 1937 г. привели к устранению целой когорты сельских руководителей, многие из которых, вероятно, печально прославились своими злоупотреблениями и продажностью. Но они не изменили властных отношений на селе в их основе, не упразднили колхозы, даже не повлияли существенно на те стороны колхозной жизни, которые наиболее тяготили крестьян. Правда, в деле выбора и отстранения председателя голос колхозников во второй половине 1930-х гг. приобрел больший вес, но такая тенденция наметилась еще до процессов и не являлась их результатом. В 1938 г. были изданы правительственные постановления, защищавшие членов колхоза, в особенности отходников и их семьи, от необоснованного исключения, уменьшавшие для колхозных председателей возможности самовластно распоряжаться колхозной собственностью и использовать ее в целях наживы, а также увеличивавшие денежные выплаты колхозникам на трудодни. В 1939 г. еще одно постановление ограничивало (по крайней мере формально) право районного руководства устанавливать посевные планы для колхозов7^.
Тем разительнее последующий переход государства к политике большего принуждения и администрирования в отношении колхозов. Важнейший пример тому — постановление 1939 г., обязавшее колхозников вырабатывать определенный минимум трудодней, не только значительно ужесточившее колхозную дисциплину, но и фактически отменившее прошлогоднее постановление, регламентировавшее исключение из колхоза. В том же самом постановлении рекомендовалось урезать приусадебные участки колхозников, чтобы заставить их больше работать на колхозной земле; соответ-
ственно все участки были перемеряны государственными землемерами, и половина дворов в колхозах потеряли землю. Вдобавок ввели новый налог на крестьянские фруктовые сады; колхозникам запретили косить для своих коров сено на колхозных лугах; увеличились планы поставок хлеба и мяса; в результате натуральная оплата трудодней была снижена без компенсации в форме повышения оплаты денежной77.
Подобные новшества несомненно удручали колхозников, но не стоит думать, будто они явились для них сюрпризом. Латышева и другие крестьяне-свидетели, конечно, прекрасно понимали, «когда столь резко критиковали свое бывшее начальство, что участвуют в политическом спектакле, а не в политической революции. По письмам, приходившим в «Крестьянскую газету» в 1938 и начале 1939 г., не видно, чтобы крестьяне пережили страшное разочарование, когда государство не выполнило того, что, казалось, обещали процессы 1937 г. Эти процессы не стали в сознании крестьян какой-то вехой, поворотным моментом; новые притеснения, с их точки зрения, были делом обычным, хоть и дурным.
В конце концов, может быть, в данном случае имеет значение само событие, а не его последствия. Процессы можно рассматривать как советскую версию карнавала — народного праздника (как правило, санкционированного государством), где на один день мир встает с ног на голову, люди веселятся в ярких кос1ю-мах, сословные границы стираются, разрешаются насмешки и глумление над власть имущими78. Но особенность карнавала в том и состоит, что он длится всего день или неделю. Потом приличия и социальные барьеры восстанавливаются, а то и укрепляются. Реальные властные отношения остаются незатронутыми. Карнавал — не революция.
Впрочем, иногда карнавал выходит из берегов. По мнению Солженицына, так и случилось с районными процессами 1937 г.; и, хотя его рассказ, основанный на одном-единственном примере, дает несколько одностороннюю картину, в этом он, возможно, прав. В Кадые, по словам Солженицына, судебное заседание вышло из-под контроля и превратилось в свалку79. Так могло быть и в других случаях; по вполне понятным причинам областные газеты, послужившие для меня основным источником, о них не писали. Во всяком случае волна районных показательных процессов схлынула так же быстро, как и поднялась: к декабрю 1937 г. все закончилось. Напрашивается закономерный вывод, что в центре решили прекратить процессы такого типа.
Вообще это была весьма смелая, даже опасная идея — организовать показательные процессы, на которых звучали реальные претензии к государственным служащим и государственной политике, где обвиняемые и обвинители (крестьяне-свидетели) являлись реальными, местными людьми, хорошо знавшими друг друга. Ходом московских процессов гораздо легче было управлять, несмотря на проблемы, возникавшие в связи с опорой ис-
ключительно на признания обвиняемых. Там тоже уничижались сильные мира сего, однако как-то невзаправду, обезличенно, на фоне таинственном и экзотическом (шпионы, иностранцы, заговоры, саботаж, заграничные поездки). Их обвиняли в гнусных преступлениях, но — за исключением «вредительства» (подстроенные несчастные случаи на производстве, толченое стекло, подсыпанное в масло, и т.п.) — то были преступления против коммунистической партии и государства, а не против всего народа.
Подобная смелость говорит о том, что Сталин или его подручные рассчитывали извлечь из показательных процессов политическую выгоду. По-видимому, намеревались дать народу излить накопившуюся зависть и ненависть к тем, кто обладал привилегиями и властью: Сталин воздал коммунистам-начальникам по заслугам — слава Сталину! Такая политическая уловка может рассматриваться как продолжение тактики 1930 г., выразившейся в статье «Головокружение от успехов», когда Сталин попытался свалить вину за проведение коллективизации на местных руководителей, допускавших «перегибы».
Подобного рода намерение ясно просматривается в репортаже «Правды» об одном из «образцовых» процессов (в Данилове Ярославской обл.). Когда процесс закончился, сообщала газета, крестьяне Даниловского района написали Сталину, благодаря его за то, что защитил их от врагов и восстановил их колхоз (который был распущен упомянутыми врагами, районными руководителями)80. «Правда» искусно рисовала образ «доброго царя» — Сталина, всеведущего и милосердного, услышавшего о несправедливостях, творимых злыми боярами и чиновниками, и пришедшего на выручку простому народу.
Беда в том, что крестьяне не поверили этой заманчивой сказке. Памятуя о сдержанности в восхвалении Сталина, проявленной ими в жалобах и прошениях, еще интереснее наблюдать, как упорно образ «царя-освободителя» игнорировался крестьянами-свидетелями на процессах. Не обращая внимания на намеки «Правды», свидетели на районных процессах не ставили суд над разложившимся местным руководством в заслугу Сталину. Они не сообщали о каких-либо ответах на их жалобы, не приписывали Сталину решающей роли в событиях и в своих показаниях неизменно избегали «наивно-монархических» формулировок типа: «Если бы Сталин знал, что происходит...». Они не посылали ему писем с благодарностью за избавление от притеснителей (а если и посылали, газеты об этом молчат). Фактически в тысячах строк, посвященных процессам местными газетами, вообще нет упоминаний о Сталине.
Неизменно впечатляет упорная враждебность, которую крестьяне питали к Сталину из-за коллективизации. Без сомнения, они рады были увидеть унижение своих угнетателей в 1937 г. — так сказать, бросить камень в свое бывшее начальство, стоящее у позорного столба. Это было злорадное удовлетворение такого же
рода, как выраженное в старинном лубке «Как мыши кота хоронили» или в частушках и высказываниях по поводу убийства Кирова. Но при всем том у крестьян совершенно отсутствовало малейшее желание разделить это удовлетворение со Сталиным, признать его своим другом, раз, по его словам, у него те же враги, что и у них. Если вид районного руководства на скамье подсудимых или известие о смерти Кирова вызывали такое злорадство, то разве не получили бы они еще большее удовольствие, узнав о падении Сталина?! Как пелось в частушке, «убили Кирова, убьем и Сталина»81.
И может быть, восклицание Латышевой: «Наша взяла, а не ваша!» — не так уж лишено оснований? В самом ли деле мыши на похоронах кота плясали под дудку Сталина? Или они пели свою собственную крамольную песенку «Убили Кирова»?
Послесловие

 В этой книге речь идет о довоенной истории советских колхозов. Почти весь период 30-х гг. крестьяне медленно оправлялись от удара, нанесенного коллективизацией. Восприятие коллективизации как второго крепостного права за десятилетие, несомненно, несколько ослабело, но не исчезло совсем, как не исчезло и равнодушное, как у всех крепостных, отношение к работе на колхозных полях. Главная причина этого заключалась в том, что колхоз продолжал служить государству средством экономической эксплуатации крестьянства в форме больших заданий по обязательным госпоставкам, оплачиваемых государством по крайне низким ценам.
В этой книге речь идет о довоенной истории советских колхозов. Почти весь период 30-х гг. крестьяне медленно оправлялись от удара, нанесенного коллективизацией. Восприятие коллективизации как второго крепостного права за десятилетие, несомненно, несколько ослабело, но не исчезло совсем, как не исчезло и равнодушное, как у всех крепостных, отношение к работе на колхозных полях. Главная причина этого заключалась в том, что колхоз продолжал служить государству средством экономической эксплуатации крестьянства в форме больших заданий по обязательным госпоставкам, оплачиваемых государством по крайне низким ценам.
В иных вопросах крестьянам лучше удавалось приспособить колхозы к собственным нуждам. Заметное исключение представляет лишь вопрос о владении лошадьми, в котором государство ни на йоту не сдвинулось со своей позиции. Но у колхозников все же были коровы и приусадебные участки; они не встречали значительных препятствий (по крайней мере со стороны государства), если хотели уехать на заработки на сторону; немалая часть уехавших сохраняла свое членство в колхозе, нисколько там не работая. Политотделы МТС в середине десятилетия исчезли, так же как и большинство председателей-чужаков, столь типичных для первых лет существования колхозов. Хотя колхоз и подчинялся району, фактически пользовавшемуся полномочиями назначать председателей, среди них становилось все больше местных, и в каких-то отношениях село (колхоз), казалось, успешно вновь брало в свои руки управление своими внутренними делами.
Как мне представляется, среди крестьянских устремлений эпохи 30-х гг. можно выделить три основных типа. Крестьяне-«традиционалисты» хотели, чтобы им оставили их лошадь и корову и дали спокойно добывать себе пропитание обработкой земли в составе некоей общинной структуры, препятствующей экономическому расслоению. «Предприниматели» хотели не только обеспечивать себе средства существования, но и получать прибыль от торговли на рынке, иметь возможность покупать и арендовать землю и становиться зажиточными по столыпинскому образцу. «Колхозники-госиждивенцы» хотели, чтобы государство вело себя как хороший хозяин: предоставило им пенсии и всевозможные социальные льготы, которые защищали бы их от риска пойти ко дну в неурожайный год. Стремления первого из этих трех типов в течение десятилетия, по всей видимости, ослабели, тогда как второго и третьего типов — усилились.
Это не значит, что крестьяне смирились с колхозами как с непреложным фактом их бытия. То, что они этого не сделали, подтверждается постоянным, на протяжении всех 30-х гг., существованием в деревне слухов о том, что скоро будет война и колхозы разгонят. И действительно, когда в 1941 г. война началась, многие крестьяне на оккупированных территориях Украины и Юга России первое время приветствовали захватчиков или, по меньшей мере, готовы были терпеть их в надежде, что они уничтожат колхозы. Подобное отношение переменилось лишь после того, как стало очевидно, что у немцев нет такого намерения*.
Поскольку коллективизация представляла собой государственный проект, имеющий целью как эксплуатацию, так и модернизацию, логично было бы ожидать, что одним из ее результатов станет вовлечение деревни в более тесные политические и культурные взаимоотношения с городом — чтобы влить российское село в состав формирующегося советского народа. Именно в 30-е гг. ощущение принадлежности к новой общности — советскому народу — широко распространилось среди городского населения. Но население сельское этот процесс, кажется, не затронул сколько-нибудь заметно (за исключением молодых крестьян, собиравшихся покинуть деревню и устроить свою жизнь в городе).
В селах стали читать больше газет, чем раньше; больше крестьянских ребятишек ходили в школу и учились там дольше. Однако не велось никакого значительного строительства железных и автодорог, которые могли бы прочнее связать село с городом, а кампания по индустриализации, вместо того чтобы принести в деревню электричество, напротив, часто оставляла крестьян даже без керосина для ламп. Уровень жизни и потребления крестьян после коллективизации резко снизился и за весь предвоенный период так и не достиг снова уровня, существовавшего до 1929 г. Кроме того, крестьяне чувствовали, что коллективизация превратила их в граждан второго сорта. Поэтому, вероятно, не стоит удивляться ни разительному отсутствию патриотизма, хоть советского, хоть русского, продемонстрированному слухами о войне, постоянно ходившими в деревне, ни столь близкому сходству надежд колхозников на освобождение руками немецких оккупантов с надеждами крепостных на Наполеона в 1812 г. Если в России и произошло превращение «крестьян в советских граждан», это случилось уже после Второй мировой войны2.
Вторая мировая война принесла новые страдания крестьянству, принявшему на себя главное бремя огромных потерь, понесенных Советским Союзом. Она сильно увеличила демографический дисбаланс в деревне. Нехватка мужчин, дававшая себя знать уже в 30-е гг., резко увеличилась. В начале 1946 г. среди всех трудоспособных колхозников РСФСР четверть были мужчины, три четверти — женщины, и даже в 1950 г. мужчины все еще составляли лишь треть трудоспособных колхозников. Нехватка мужчин являлась результатом не только военных потерь, но и решения
выживших не возвращаться в колхоз после войны. Хотя две трети личного состава Советской армии были призваны из колхозов, только половина уцелевших вернулась туда после демобилизации. Отток населения из деревни в город продолжался и после войны, несмотря на существовавшую по-прежнему паспортную систему. В 1950—1954 гг. 9 млн сельских жителей навсегда переселились в город. Доля сельского населения по стране неуклонно снижалась, упав в 1961 г. ниже 50%-ного уровняЗ.
Как крестьяне на оккупированных территориях поначалу надеялись на отмену колхозов немцами, так же и крестьяне по всей стране, когда война уже близилась к концу, стали говорить о больших переменах, которые наверняка принесет мир. Повышение терпимости к религии во время войны, на уровне высокой политики выразившееся в заключении в 1943 г. государственного конкордата с православной церковью, а на местном уровне — в осторожном выходе на свет «подпольной» религиозной деятельности, несомненно, способствовало таким надеждам. Во многих колхозах во время войны приусадебные участки колхозников были увеличены за счет колхозной земли, и некоторые предприимчивые крестьяне получили большую прибыль, продавая голодающим горожанам продукты на черном рынке. Везде ожидали, что после войны советская власть либо отменит, либо значительно модифицирует колхозы4.
Надежды колхозников на послевоенное послабление разрушило постановление правительства от 19 сент. 1946 г. «О мерах по ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной артели в колхозах», предписывавшее всем, кто присвоил колхозную землю, вернуть ее и определявшее различные меры по укреплению колхозной дисциплины5. Планы поставок и налоги выросли более чем когда-либо, а денежная реформа 1947 г. уничтожила сбережения крестьян из группы предпринимателей военного времени. В конце 40-х гг. была проведена коллективизация (и раскулачивание) в Прибалтийских республиках и на других вновь присоединенных территориях, и это послужило лишним подтверждением того факта, что колхозы являются одним из ключевых элементов советской системы. Период с конца войны и до смерти Сталина в 1953 г. стал для крестьян самым тяжелым из всех, пережитых ими с начала 30-х гг.
В 1950 г. власть сделала важный шаг назад, решив слить существующие колхозы в более крупные объединения. Число колхозов упало с 250000 в 1949 г. до 124000 в 1950 г. и впоследствии продолжало уменьшаться — до 69000 в 1958 г. и 36000 в 1965 г. К середине 60-х гг. средний колхоз включал более 400 дворов, тогда как до реформы — около 80. Это означало, что село больше ни в каком смысле не являлось самоуправляющейся или сколько-нибудь значительной хозяйственной единицей. Кроме того, новые колхозы были так велики, что требовали профессионального управления. В 1955 г., как бы возвращаясь в первые годы коллек-
тивизации, власти развернули кампанию по отправке в деревню 30000 добровольцев — 30-тысячников, — которые должны были стать председателями колхозов6.
Укрупнение усилило проявившуюся еще в конце войны тенденцию к назначению жестких колхозных председателей, часто чужаков. Многие, сделавшиеся председателями в послевоенные годы, были ветеранами армии и коммунистами. Эти новые председатели отличались от своих предшественников конца 30-х гг. и военного времени. Председатель такого типа «принес... с войны строгость и дисциплину, дикую разруху решил одолеть отчаянной атакой, как брал недавно вражеские окопы. Его уши глохли подчас от бесчисленных жалоб и просьб людских, которые не мог он никак исполнить, а слово "давай!" стало в его лексиконе самым ходовым и результативным» 7.
Хотя в послесталинскую эпоху поведение колхозных председателей стало менее жестким, поворот к назначению «карьерных» председателей — профессиональных администраторов, придерживающихся авторитарного стиля в отношениях с крестьянами и, как правило, сохраняющих дистанцию между собой и ими, — совершился окончательно. Эти новые председатели, которые по своему складу и происхождению были ближе к районным чиновникам, чем к крестьянам, брали на себя всю ответственность за колхоз и принимали все решения. Они мало чем отличались от директоров совхозов (уже в 30-е гг. ставших администраторами с ежемесячным окладом), так же как и укрупненные колхозы все меньше отличались от совхозов.
По стилю управления, как отмечали в 60-е гг. два западных наблюдателя, колхозные председатели и директора совхозов походили на помещиков и управляющих прежних времен, а поведение крестьян точно так же имело много общего с поведением крепостных. «Судя по действиям одного пожилого совхозного рабочего, которого мы встретили на улице... низы также всячески старались проявлять покорность и смирение. Завидев директора, этот старый мужик внезапно остановился, сорвал с себя шапку и, прижав ее к груди, принялся непрестанно отвешивать короткие поклоны, как бедный крестьянин времен царизма»8.
По заключению этих наблюдателей, колхозники по-прежнему относились к работе в колхозе, как к барщине:
«Колхозный "крепостной" выполняет свои трудовые обязанности перед "хозяином" небрежно, нехотя. Он не заботится о плодородии "коллективной" земли. Она не его. Он не видит ни коллективных сорняков, ни ржавчины на коллективной технике, ни личной коровы, объедающей коллективное поле. Он крадет у коллектива или привычно смотрит сквозь пальцы, как крадут его собратья... »9
Колхозных председателей нового поколения можно сравнить с советскими директорами в промышленности. Они были такими же дельцами и комбинаторами на селе. Как их коллеги в промышлен-
ности, заправляющие делами в «заводских городах» советской провинции, председатели колхозов и директора совхозов выступали в роли хозяев своих маленьких вотчин, поддерживая полезные связи в районе и выше, совершая разные хитроумные сделки с колхозной продукцией, чтобы их колхоз получил нужное ему количество удобрений или не был задавлен слижком тяжкими планами госпоставок. Один советский журналист в 60-е гг. заметил:
«Почти вся экономическая и социальная власть в сельском обществе сосредоточена в его руках, и он вынужден пользоваться ею, в первую очередь, чтобы решать свои производственные проблемы. Он — главная сила, "делец", который всем заправляет.. >Ю
Другие перемены в политике послесталинского периода оказались еще важнее для эволюции колхозов в последние четыре десятилетия советской власти. После жестких требований позднего сталинского периода партийные руководители в послесталинскую эпоху согласились между собой в том, что бремя, лежащее на крестьянстве, следует облегчить. И его действительно значительно облегчили, сначала при Хрущеве, потом при Брежневе. В результате жизнь российского крестьянина в последнюю четверть советской эры резко улучшилась.
В конце 50-х — начале 60-х гг. Хрущев раз в пять повысил закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию. Средний доход колхозника от работы в колхозе (и денежный и натуральный) за период 1953 — 1967 гг. вырос в абсолютном выражении на 311%. Это означало, что основные средства к жизни колхозникам все больше давал заработок в колхозе, а не доход с приусадебного участка. В то же время часть колхозного заработка, выдававшаяся наличными, в большинстве колхозов 30-х гг. ничтожная, значительно увеличилась, так что в середине 60-х гг. колхозники уже получали основную часть заработка наличными, а не натурой11.
Хрущев попытался компенсировать это повышение доходов, урезав официально разрешенные размеры приусадебного участка и штрафуя тех колхозников, которые не отрабатывали установленное количество времени на колхозной земле. Но после его падения эти меры были отменены. При Брежневе приусадебный участок уже не являлся ключевым элементом системы выживания для крестьянина, как в 30-е гг., однако все еще играл важную роль как в крестьянском хозяйстве, так и в экономике в целом, поставляя во второй половине 70-х гг. треть всей продукции животноводства и десятую часть всех пищевых культур и все еще занимая треть времени крестьянина12.
Крестьяне всегда мечтали о таком положении, когда они будут защищены от риска разорения в неурожайные годы. В ходе обсуждения Конституции 1936 г. они предлагали распространить на колхозников меры социального обеспечения, доступные городским работникам, а некоторые даже выдвигали идею гарантированного
минимума заработной платы. Эти чаяния «колхозников-госиждивенцев» сбылись в 60-е гг.
Во-первых, колхозники в 1964 г. стали получать пенсии по старости. Поначалу они были значительно меньше пенсий городских рабочих и служащих, однако в 1968 г. пенсионный возраст для колхозников снизили до 60 лет у мужчин и 55 у женщин, как и в городском секторе, а колхозные пенсии повысили. В 1970 г. последовало введение государственного страхования здоровья для всех колхозников, хотя размеры его, как и размеры пенсий, были более скудными, чем для городских рабочих1^.
Во-вторых, в 1966 г. был введен гарантированный минимум заработной платы для колхозников. Заработная плата, рассчитывавшаяся на основе платы за такую же работу в совхозах, была одинаковой как для передовых колхозов, так и для тех, которые находились в состоянии экономического упадка14.
Естественно, зарплата колхозников намного отставала от зарплаты городских рабочих, средняя заработная плата в колхозе в 1971 г. составляла 78 руб., тогда как в городском секторе — 126 руб. Впрочем, на самом деле разница была не так велика, если помимо наличных начислялся и заработок в натуре. Кроме того, в сельской местности за период 1950—1976 гг. доходы выросли гораздо значительнее, чем в городе. По подсчетам Г.Шре-дер, средний заработок (в натуре и наличными) сельскохозяйственных рабочих за этот период более чем утроился, а у несельскохозяйственных рабочих — только удвоился. В 1950 г. средний доход работающего в сельском хозяйстве составлял 56% от среднего дохода работающих в других сферах экономики; в 1976 г. — уже 88%15.
Если в 60-е гг. совершили скачок вперед доходы и материальное благосостояние на селе, то в 70-е деревня наконец начала догонять город и в сфере культуры. В 70-е — 80-е гг. разительно повысился образовательный уровень сельского населения. В 1970 г. только 318 на 1000 чел. сельских жителей в возрасте 10 лет и старше имели среднее образование, тогда как среди городского населения — 530 на 1000 чел. К 1989 г. эти цифры соответственно были: 588 на 1000 чел., 666 на 1000 чел.16.
В 70-е гг. в деревню в массовом порядке пришло телевидение, и к 1980 г. на каждые 100 семей там приходился 71 телевизор (в городах — 91). В то же самое время примерно 6 из 10 семей в деревне имели холодильники и стиральные машины; даже автомобили начали во второй половине 70-х гг. появляться на селе в значительном количестве17.
Несмотря на столь заметные улучшения, деревня во многих отношениях все еще далеко отставала от города. Хотя в большинстве сел в 60-е гг. появилось электричество и почти в 60% сельских домов к 1976 г. был газ, число сельских жителей, имеющих в доме отопление, горячую воду, ванные, телефоны, оставалось невелико, и многим по-прежнему приходилось таскать воду в вед-
pax из колодца. Обследование сельских жилищ, проведенное в 1977 г. в Новосибирской области, выявило, что лишь пятая часть их имела водопровод, десятая часть — отопление и 4% — телефоны. Сельские дороги также оставались в плачевном состоянии. В 1976 г. только 9% сельских населенных пунктов в Советском Союзе располагалось у мощеных дорог. Сельские улицы все еще представляли собой «типичные широкие проселки старой России, а тротуары — тропинки в грязи на обочине»18.
Остаточные признаки статуса колхозников как «граждан второго сорта» дожили до 70-х и даже 80-х гг. Когда в 1969 г. был обнародован третий Устав сельскохозяйственной артели, колхозникам все еще не разрешалось держать лошадей (некоторые вещи остаются неизменными при всех переменах!) и не выдавались автоматически паспорта. В конце 70-х гг. состоялись дискуссии на тему, не пора ли разрешить им держать лошадей. Но лошади так и остались в России дефицитом, а политики из старой гвардии по-прежнему считали, что частная собственность на «средства производства» абсолютно несовместима с социалистическим сельским хозяйством. В 1982 г. правительство смягчило правила, разрешив иметь лошадей совхозным рабочим и всем прочим сельским жителям кроме колхозников. Как это ни невероятно, но формальное запрещение колхозникам держать лошадей, кажется, сохранилось вплоть до распада СССР в 1991 г., хотя и не так уж строго соблюдалось в последнее десятилетие1^.
С решением проблемы паспортов у советской власти тоже были трудности, но тут прогресс оказался не таким жалким, как в вопросе о лошадях. К 70-м гг. советские политические лидеры признали, что оставлять колхозников на положении граждан второго сорта в связи с отсутствием права на автоматическое получение паспорта не подобает. Однако они боялись, как бы устранение формального препятствия к отъезду из деревни не повысило и так уже тревоживший их уровень миграции. Накануне Второй мировой войны, несмотря на сильную миграцию в города в 30-е гг., две трети населения Советского Союза все еще оставались в селе. В 1959 г. доля сельского населения сократилась до 52% (109 млн чел.). К 1970 г. она упала до 44% (106 млн чел.), а к концу десятилетия составляла лишь 38% (менее 100 млн чел.)20.
Политики, как можно было бы подумать, должны были прийти к совершенно очевидному выводу, что закон о паспортизации не стал сколько-нибудь существенной помехой отъезду. Вместо этого они размышляли о том, насколько все будет хуже, если крестьянам действительно начнут выдавать паспорта. К моменту выхода в 1974 г. нового закона о паспортах вопрос о правах крестьян был проработан кое-как. Однако в течение нескольких лет разум восторжествовал. К 1980 г. крестьяне получили паспорта, и исторические неравноправие, созданное в 1933 г., было окончательно ликвидировано21.
К концу брежневского периода большинство исторических несправедливостей были устранены. Сельское население жило лучше, чем когда-либо, и, по-видимому, работало меньше, чем когда-либо. Оно сократилось от двух третей всего населения в 1939 г. до одной трети полвека спустя, а колхозное население сократилось еще больше и в 1979 г. насчитывало всего 39 млн чел. (15% всего населения; менее 40% сельского населения). Это был результат не только миграции из села в город, но и перехода колхозников в совхозы — теперь куда более привлекательное место, нежели в 30-е гг., где, как правило, и платили лучше22.
Признаков предприимчивости среди стареющего крестьянского населения было не различить невооруженным глазом, разве что председатели колхозов являлись энергичными предпринимателями советского типа (скорее комбинаторами, чем рационализаторами). Зато признаки всеобщего госиждивенчества были налицо. Колхозники достигли своей долгожданной цели — почти полностью избавиться от риска. Государство отпускало сельскому хозяйству дотации — в таких размерах, что Сталин, не говоря уже о старых большевиках-марксистах 20-х гг., перевернулся бы в гробу, — практически без всякого эффекта. Низкая производительность советского сельского хозяйства стала притчей во языцех.
Так что же удивительного в том, что крестьяне, когда их призвали сбросить оковы колхозов и храбро ринуться в новый мир независимого капиталистического фермерства, ответили глухим молчанием. Стареющие колхозники, обеспеченные гарантированным минимумом заработной платы, пенсиями и страхованием здоровья, естественно, смотрели на перемены в позднюю советскую и раннюю постсоветскую эпоху с опаской и часто рассчитывали на то, что их председатели будут возглавлять их и руководить их действиями в новой ситуации.
«Мы плакали, когда в сорок девятом гнали в колхоз, а теперь будем плакать, когда станете из колхоза гнать!» — говорили в 1990 г. литовские крестьяне. Колхоз внезапно стал казаться весьма привлекательным, даже в Прибалтике, где крестьяне лишь 40 лет были оторваны от прежних традиций единоличного хозяйствования, что же говорить о России, оторванной от них почти на 60 лет — более чем на 2 поколения! Молодые не хотят выходить из колхоза, говорил ошеломленному российскому журналисту сельский механик в Литве, потому что у них нет интереса делать деньги и они не хотят работать; старые — потому что нет смысла — они просто дожидаются выхода на пенсию".
В России появлялись сообщения о враждебности по отношению к предприимчивым людям, пытавшимся выйти из колхоза или приезжавшим в село, чтобы стать независимыми фермерами, очень напоминавшей прежнюю враждебность сельской общины к «выделившимся». «У кого совесть есть, торговать не пойдет». «Мы к колхозу привычные». «Кто хочет уйти из колхоза, того и
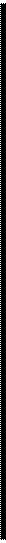 хоронить не будем. Не будет тому гроба из колхозного пиломатериала!»24
хоронить не будем. Не будет тому гроба из колхозного пиломатериала!»24
Колхоз пережил советскую систему, создавшую его (будущее покажет, надолго ли), а «крепостной» менталитет колхозников сохранился и после того, как государственное принуждение, породившее его, сменилось государственными подачками. Нескончаемый поток крестьян-мигрантов принес с собой в город их привычку работать спустя рукава и презрение к понятию государственной (общественной) собственности. Когда Советский Союз наконец свершил свой земной путь, колхоз и его проблемы могли бы *' служить олицетворением всего советского общества: не представ- О ляющего больше опасности, как в прошлом; не управляемого без- \ жалостными и внушающими страх начальниками; инертного, тяжелого на подъем и пассивно сопротивляющегося переменам — общества, члены которого по большей части презрительно относятся к идее общественного блага, подозрительно — к энергичным или удачливым соседям, постоянно чувствуют себя ущемленными тем, что «они» (начальники) делают, но не шевельнут и пальцем в своей твердой решимости не делать ничего самим.