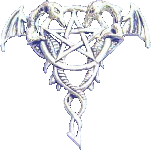Песнь двадцать первая
Круг пятый (окончание)
Терзаемый огнем природной жажды,
Который утоляет лишь вода,
Самаритянке данная однажды,[842]
Я, следуя вождю, не без труда
Загроможденным кругом торопился,
Скорбя при виде правого суда.
И вдруг, как, по словам Луки, явился
Христос в дороге двум ученикам,
Когда его могильный склеп раскрылся, –
Так здесь явился дух,[843] вдогонку нам,
Шагавшим над простертыми толпами;
Его мы не заметили; он сам
Воззвал к нам: «Братья, мир господень с вами!»
Мы тотчас обернулись, и поэт
Ему ответил знаком и словами:
«Да примет с миром в праведный совет
Тебя неложный суд, от горней сени
Меня отторгший до скончанья лет!»
«Как! Если вы не призванные тени, –
Сказал он, с нами торопясь вперед, –
Кто вас возвел на божии ступени?»
И мой наставник: «Кто, как этот вот,
Отмечен ангелом, несущим стражу,
Тот воцаренья с праведными ждет.
Но так как та, что вечно тянет пряжу,[844]
Его кудель ссучила не вполне,
Рукой Клото намотанную клажу,
Его душа, сестра тебе и мне,
Не обладая нашей мощью взгляда,
Идти одна не может к вышине.
И вот я призван был из бездны Ада
Его вести, и буду близ него,
Пока могу руководить, как надо.
Но, может быть, ты знаешь: отчего
Встряслась гора и возглас ликованья
Объял весь склон до влажных стоп его?»
Спросив, он мне попал в ушко желанья
Так метко, что и жажда смягчена
Была одной отрадой ожиданья.
Тот начал так: «Гора отрешена
Ото всего, в чем нарушенье чина
И в чем бы оказалась новизна.
Здесь перемен нет даже и помина:
Небесного в небесное возврат
И только – их возможная причина.
Ни дождь, ни иней, ни роса, ни град,
Ни снег не выпадают выше грани
Трех ступеней у загражденных врат.[845]
Нет туч, густых иль редких, нет блистаний,
И дочь Фавманта в небе не пестра,
Та, что внизу живет среди скитаний.[846]
Сухих паров[847] не ведает гора
Над сказанными мною ступенями,
Подножием наместника Петра.
Внизу трясет, быть может, временами,
Но здесь ни разу эта вышина
Не сотряслась подземными ветрами.[848]
Дрожит она, когда из душ одна
Себя познает чистой, так что встанет
Иль вверх пойдет; тогда и песнь слышна.
Знак очищенья – если воля взманит
Переменить обитель,[849] и счастлив,
Кто, этой волей схваченный, воспрянет.
Душа и раньше хочет; но строптив
Внушенный божьей правдой, против воли,
Позыв страдать, как был грешить позыв.
И я, простертый в этой скорбной боли
Пятьсот и больше лет, изведал вдруг
Свободное желанье лучшей доли.
Вот отчего все дрогнуло вокруг,
И духи песнью славили гремящей
Того, кто да избавит их от мук».
Так он сказал; и так как пить тем слаще,
Чем жгучей жажду нам пришлось терпеть,
Скажу ль, как мне был в помощь говорящий?
И мудрый вождь: «Теперь я вижу сеть,
Вас взявшую, и как разъять тенета,
Что зыблет гору и велит вам петь.
Но кем ты был – узнать моя забота,
И почему века, за годом год,
Ты здесь лежал – не дашь ли мне отчета?»
«В те дни, когда всесильный царь высот
Помог, чтоб добрый Тит отмстил за раны,
Кровь из которых продал Искарьот,[850] –
Ответил дух, – я оглашал те страны
Прочнейшим и славнейшим из имен,[851]
К спасению тогда еще не званный.
Моих дыханий был так сладок звон,
Что мною, толосатом[852], Рим пленился,
И в Риме я был миртом осенен.
В земных народах Стаций не забылся.
Воспеты мной и Фивы и Ахилл,
Но под второю ношей я свалился.[853]
В меня, как семя, искру заронил
Божественный огонь, меня жививший,
Который тысячи воспламенил;
Я говорю об Энеиде, бывшей
И матерью, и мамкою моей,
И все, что труд мой весит, мне внушившей.
За то, чтоб жить, когда среди людей
Был жив Вергилий, я бы рад в изгнанье[854]
Провесть хоть солнце[855] свыше должных дней».
Вергилий на меня взглянул в молчанье,
И вид его сказал: «Будь молчалив!»
Но ведь не все возможно при желанье.
Улыбку и слезу родит порыв
Душевной страсти, трудно одолимый
Усильем воли, если кто правдив.
Я не сдержал улыбки еле зримой;
Дух замолчал, чтоб мне в глаза взглянуть,
Где ярче виден помысел таимый.
«Да завершишь добром свой тяжкий путь! –
Сказал он мне. – Но что в себе хоронит
Твой смех, успевший только что мелькнуть?»
И вот меня две силы розно клонят:
Здесь я к молчанью, там я понужден
К ответу; я вздыхаю, и я понят
Учителем. «Я вижу – ты смущен.
Ответь ему, а то его тревожит
Неведенье», – так мне промолвил он.
И я: «Моей улыбке ты, быть может,
Дивишься, древний дух. Так будь готов,
Что удивленье речь моя умножит.
Тот, кто ведет мой взор чредой кругов,
И есть Вергилий, мощи той основа,
С какой ты пел про смертных и богов.
К моей улыбке не было иного,
Поверь мне, повода, чем миг назад
О нем тобою сказанное слово».
Уже упав к его ногам, он рад
Их был обнять; но вождь мой, отстраняя:
«Оставь! Ты тень и видишь тень, мой брат».
«Смотри, как знойно, – молвил тот, вставая, –
Моя любовь меня к тебе влекла,
Когда, ничтожность нашу забывая,
Я тени принимаю за тела».