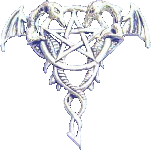Песнь семнадцатая
Герион – Круг седьмой – Третий пояс (окончание) – Насильники над естеством и искусством (лихоимцы) – Спуск в восьмой круг
Вот острохвостый зверь, сверлящий горы,
Пред кем ничтожны и стена, и меч;
Вот, кто земные отравил просторы».
Такую мой вожатый начал речь,
Рукою подзывая великана
Близ пройденного мрамора[208] возлечь.
И образ омерзительный обмана,
Подплыв, но хвост к себе не подобрав,
Припал на берег всей громадой стана.

Он ясен был лицом и величав
Спокойством черт приветливых и чистых,
Но остальной змеиным был состав.
Две лапы, волосатых и когтистых;
Спина его, и брюхо, и бока –
В узоре пятен и узлов цветистых.
Пестрей основы и пестрей утка
Ни турок, ни татарин не сплетает;
Хитрей Арахна[209] не ткала платка.
Как лодка на причале отдыхает,
Наполовину погрузясь в волну;
Как там, где алчный немец обитает,
Садится бобр вести свою войну,[210] –
Так лег и гад на камень оголенный,
Сжимающий песчаную страну.
Хвост шевелился в пустоте бездонной,
Крутя торчком отравленный развил,
Как жало скорпиона заостренный.[211]
«Теперь нам нужно, – вождь проговорил, –
Свернуть с дороги, поступь отклоняя
Туда, где гнусный зверь на камни всплыл».
Так мы спустились вправо[212] и, вдоль края,
Пространство десяти шагов прошли,
Песка и жгучих хлопьев избегая.
Приблизясь, я увидел невдали
Толпу людей,[213] которая сидела
Близ пропасти в сжигающей пыли.
И мне мой вождь: «Чтоб этот круг всецело
Исследовать во всех его частях,
Ступай, взгляни, в чем разность их удела.
Но будь короче там в твоих речах;
А я поговорю с поганым дивом,
Чтоб нам спуститься на его плечах».
И я пошел еще раз над обрывом,
Каймой седьмого круга, одинок,
К толпе, сидевшей в горе молчаливом.
Из глаз у них стремился скорбный ток;
Они все время то огонь летучий
Руками отстраняли, то песок.
Так чешутся собаки в полдень жгучий,
Обороняясь лапой или ртом
От блох, слепней и мух, насевших кучей.
Я всматривался в лица их кругом,
В которые огонь вонзает жала;
Но вид их мне казался незнаком.
У каждого на грудь мошна свисала,
Имевшая особый знак и цвет,[214]
И очи им как будто услаждала.
Так, на одном я увидал кисет,
Где в желтом поле был рисунок синий,
Подобный льву, вздыбившему хребет.
А на другом из мучимых пустыней
Мешочек был, подобно крови, ал
И с белою, как молоко, гусыней.
Один, чей белый кошелек являл
Свинью, чреватую и голубую,
Сказал мне: «Ты зачем сюда попал?
Ступай себе, раз носишь плоть живую,
И знай, что Витальяно[215], мой земляк,
Придет и сядет от меня ошую.
Меж этих флорентийцев я чужак,
Я падуанец; мне их голос грубый
Все уши протрубил: «Где наш вожак,
С тремя козлами, наш герой сугубый?»[216]
Он высунул язык и скорчил рот,
Как бык, когда облизывает губы.
И я, боясь, не сердится ли тот,
Кто мне велел недолго оставаться,
Покинул истомившийся народ.
Тем временем мой вождь успел взобраться
Дурному зверю на спину – и мне
Промолвил так: «Теперь пора мужаться!
Вот, как отсюда сходят к глубине.
Сядь спереди, я буду сзади, рядом,
Чтоб хвост его безвреден был вполне».
Как человек, уже объятый хладом
Пред лихорадкой, с синевой в ногтях,
Дрожит, чуть только тень завидит взглядом, –
Так я смутился при его словах;
Но как слуга пред смелым господином,
Стыдом язвимый, я откинул страх.
Я поместился на хребте зверином;
Хотел промолвить: «Обними меня», –
Но голоса я не был властелином.
Тот, кто и прежде был моя броня,
И без того поняв мою тревогу,
Меня руками обхватил, храня,
И молвил: «Герион, теперь в дорогу!
Смотри, о новой ноше не забудь:
Ровней кружи и падай понемногу».
Как лодка с места трогается в путь
Вперед кормой, так он оттуда снялся
И, ощутив простор, направил грудь
Туда, где хвост дотоле извивался;
Потом как угорь выпрямился он
И, загребая лапами, помчался.
Не больше был испуган Фаэтон,
Бросая вожжи, коими задетый
Небесный свод доныне опален,[217]
Или Икар, почуя воск согретый,
От перьев обнажавший рамена,
И слыша зов отца: «О сын мой, где ты?»[218] –
Чем я, увидев, что кругом одна
Пустая бездна воздуха чернеет
И только зверя высится спина.
А он все вглубь и вглубь неспешно реет,
Но это мне лишь потому вдогад,
Что ветер мне в лицо и снизу веет.
Уже я справа слышал водопад,
Грохочущий под нами, и пугливо
Склонил над бездной голову и взгляд;
Но пуще оробел, внизу обрыва
Увидев свет огней и слыша крик,
И отшатнулся, ежась боязливо.
И только тут я в первый раз постиг
Спуск и круженье, видя муку злую
Со всех сторон все ближе каждый миг.
Как сокол, мощь утратив боевую,
И птицу и вабило[219] тщетно ждав, –
Так что сокольник скажет: «Эх, впустую!»
На место взлета клонится, устав,
И, опоясав сто кругов сначала,
Вдали от всех садится, осерчав, –
Так Герион осел на дно провала,
Там, где крутая кверху шла скала,
И, чуть с него обуза наша спала,
Взмыл и исчез, как с тетивы стрела.