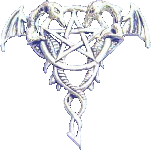Песнь десятая
Круг шестой (продолжение)
И вот идет, тропинкою, по краю,
Между стеной кремля и местом мук,
Учитель мой, и я вослед ступаю.
«О высший ум, из круга в горший круг, –
Так начал я, – послушного стремящий,
Ответь и к просьбе снизойди как друг.
Тех, кто положен здесь в земле горящей,
Нельзя ль увидеть? Плиты у могил
Откинуты, и стражи нет хранящей».

«Все будут замкнуты, – ответ мне был, –
Когда вернутся из Иосафата[96]
В той плоти вновь, какую кто носил.
Здесь кладбище для веривших когда-то,
Как Эпикур[97] и все, кто вместе с ним,
Что души с плотью гибнут без возврата
Здесь ты найдешь ответ речам твоим
И утоленье помысла другого,[98]
Который в сердце у тебя таим».
И я: «Мой добрый вождь, иное слово
Я берегу, в душе его храня,
Чтоб заповедь твою[99] блюсти сурово».
«Тосканец, ты, что городом огня
Идешь, живой, и скромен столь примерно,
Прошу тебя, побудь вблизи меня.
Ты, судя по наречию, наверно
Сын благородной родины моей,
Быть может, мной измученной чрезмерно,
Нежданно грянул звук таких речей
Из некоей могилы; оробело
Я к моему вождю прильнул тесней.
И он мне: «Что ты смотришь так несмело?
Взгляни, ты видишь: Фарината встал.
Вот: все от чресл и выше видно тело».
Уже я взгляд в лицо ему вперял;
А он, чело и грудь вздымая властно,
Казалось, Ад с презреньем озирал.
Меня мой вождь продвинул безопасно
Среди огней, лизавших нам пяты,
И так промолвил: «Говори с ним ясно».
Когда я стал у поднятой плиты,
В ногах могилы, мертвый, глянув строго,
Спросил надменно: «Чей потомок ты?»
Я, повинуясь, не укрыл ни слога,
Но в точности поведал обо всем;
Тогда он брови изогнул немного,
Потом сказал: «То был враждебный дом
Мне, всем моим со кровным и клевретам;
Он от меня два раза нес разгром».
«Хоть изгнаны, – не медлил я ответом, –
Они вернулись вновь со всех сторон;
А вашим счастья нет в искусстве этом».[100]
Тут новый призрак, в яме, где и он,
Приподнял подбородок выше края;
Казалось, он коленопреклонен.
Он посмотрел окрест, как бы желая
Увидеть, нет ли спутника со мной;
Но умерла надежда, и, рыдая,
Он молвил: «Если в этот склеп слепой
Тебя привел твой величавый гений,
Где сын мой? Почему он не с тобой?»
«Я не своею волей в царстве теней, –
Ответил я, – и здесь мой вождь стоит;
А Гвидо ваш не чтил его творений».
Его слова и казни самый вид
Мне явственно прочли, кого я встретил;
И отзыв мой был ясен и открыт.
Вдруг он вскочил, крича: «Как ты ответил?
Он их не чтил? Его уж нет средь вас?
Отрадный свет его очам не светел?»
И так как мой ответ на этот раз
Недолгое молчанье предваряло,
Он рухнул навзничь и исчез из глаз.[101]
А тот гордец, чья речь меня призвала
Стать около, недвижен был и тих
И облик свой не изменил нимало.
«То, – продолжал он снова, – что для них
Искусство это трудным остается,
Больнее мне, чем ложе мук моих.
Но раньше, чем в полсотый раз зажжется
Лик госпожи, чью волю здесь творят,[102]
Ты сам поймешь, легко ль оно дается.
Но в милый мир да обретешь возврат! –
Поведай мне: зачем без снисхожденья
Законы ваши всех моих клеймят?»
И я на это: «В память истребленья,
Окрасившего Арбию[103] в багрец,
У нас во храме так творят моленья».
Вздохнув в сердцах, он молвил наконец:
«Там был не только я, и в бой едва ли
Шел беспричинно хоть один боец.
Зато я был один,[104] когда решали
Флоренцию стереть с лица земли;
Я спас ее, при поднятом забрале».
«О, если б ваши внуки мир нашли! –
Ответил я. – Но разрешите путы,
Которые мой ум обволокли.
Как я сужу, пред вами разомкнуты
Сокрытые в грядущем времена,
А в настоящем взор ваш полон смуты».[105]
«Нам только даль отчетливо видна, –
Он отвечал, – как дальнозорким людям;
Лишь эта ясность нам Вождем дана.
Что близится, что есть, мы этим трудим
Наш ум напрасно; по чужим вестям
О вашем смертном бытии мы судим.
Поэтому, – как ты поймешь и сам, –
Едва замкнется дверь времен грядущих,[106]
Умрет все знанье, свойственное нам».
И я, в скорбях, меня укором жгущих:
«Поведайте упавшему тому,
Что сын его еще среди живущих;
Я лишь затем не отвечал ему,
Что размышлял, сомнением объятый,
Над тем, что ныне явственно уму».
Уже меня окликнул мой вожатый;
Я молвил духу, что я речь прерву,
Но знать хочу, кто с ним в земле проклятой.
И он: «Здесь больше тысячи во рву;
И Федерик Второй[107] лег в яму эту,
И кардинал[108]; лишь этих назову».
Тут он исчез; и к древнему поэту
Я двинул шаг, в тревоге от угроз,[109]
Ища разгадку темному ответу.
Мы вдаль пошли; учитель произнес:
«Чем ты смущен? Я это сердцем чую».
И я ему ответил на вопрос.
«Храни, как слышал, правду роковую
Твоей судьбы», – мне повелел поэт.
Потом он поднял перст: «Но знай другую:
Когда ты вступишь в благодатный свет
Прекрасных глаз, все видящих правдиво,
Постигнешь путь твоих грядущих лет».[110]
Затем левей он взял неторопливо,
И нас от стен повел пологий скат
К средине круга, в сторону обрыва,
Откуда тяжкий доносился смрад.